Л. И. ГИНЦБЕРГ
НА ПУТИ
В ИМПЕРСКУЮ
КАНЦЕЛЯРИЮ
Германский фашизм рвется к власти
Издательство «Наука»
Москва
1972
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение.................................................. …………..5
Глава
первая. Обзор источников и литературы……. 13
Источники.................................................. …………13
Литература о
предыстории передачи власти Гитлеру … 26
Глава вторая.
Начальный период мирового экономического кризиса.
Возникновение фашистской угрозы ………………..…..48
Кризис и планы господствующих классов ....:…………48
Первые
успехи гитлеровской партии…………………...56
Противоречия
в правящем лагере и смена правительства…72
Политическая
борьба весной и летом 1930 г.
Роспуск рейхстага……………………………………………. 81
Предвыборная
кампания и фашизация ……………………..96
КПГ в борьбе
против фашистской угрозы и реакционного
правительства………………………………………………..105
Глава
третья. Обострение экономического и
политического положения в конце 1930 —
первой половине 1931 г……………………….....................115
Резкое усиление фашистской опасности………………….115
Правящие
круги и гитлеровская партия…………………..121
Политика
«меньшего зла» социал-демократического
руководства …………………………………………………132
Чрезвычайное
законодательство и массовые выступления
трудящихся……………………………………………………142
Внутриполитическая
борьба весной и летом 1931 г. и
финансовый крах………………………………………………148
Борьба
КПГ за единый рабочий фронт против фашизма……162
Глава
четвертая. Консолидация сил крайней реакции………181
Идеологическая помощь фашизму……………………………181
Группа
Тиссена — Кирдорфа усиливает нажим.
Гарцбургский
фронт……………………………………………195
Преобразование
правительства Брюнинга и новые
поиски путей сговора с Гитлером……………………………..202
Фашистский террор и его
покровители. «Боксгеймские
документы»……………………………………………….……..212
Новые
чрезвычайные декреты…………………………………224
Глава
пятая. Гитлеровцы усиливают наступление……………232
Экономическая разруха в стране и положение трудящихся….232
Монополии
и их союзники-нацисты……………………………237
Борьба
за пост президента республики …………………………244
Маневры
правящих кругов и отставка Брюнинга………………255
К
массовому единому фронту……………………………………269
Глава
шестая. Профашистский «кабинет баронов»……………..275
Фол Папен и его министры……………………………………….275
«Антифашистская
акция» и противники единства ……………..283
Реакционный
переворот в Пруссии………………………………293
Итоги
выборов и противоречия в лагере реакции ………………310
Глава
седьмая. Перелом в ходе классовой борьбы……………….322
Сентябрьский чрезвычайный декрет и подъем забастовочного
движения …………………………………….………………………322
Обострение
разногласий в буржуазном лагере ……………………330
Политические
банкроты……………………………………………..337
Против
милитаризма и шовинизма…………………………………344
Шесть
миллионов голосов за КПГ………………………………….352
Глава
восьмая. Установление гитлеровской диктатуры…………..364
Требования монополистического капитала………………………..364
Правительство
Шлейхера и его цели ………………………………373
Паника
в среде фашистов и заговор реакции ...................................380
Коммунисты
зовут к борьбе…………………………………………400
Гитлер
у власти……………………………………………………….407
Заключение
…………………………………………………………..420
Источники и литература…………………………………………….427
Указатель имен……………………………………………………….446
Настоящая работа ограничена
хронологически сравнительно небольшим периодом — с осени
В истории каждого народа есть
переломные моменты, которые определяют направление дальнейшего развития страны.
Иногда воздействие это сказывается в течение многих десятков лет, в других
случаях оно не столь долговременно, тем не менее, оставляет глубокий след.
Таким переломным моментом в новейшей истории Германии было начало 30-х годов.
Приход там фашистов к власти стал событием, оказавшим серьезное влияние на
судьбы не только немецкого, но и других народов мира.
Можно без преувеличения
сказать, что превращение Германии в то время в заповедник фашизма деформировало
ход исторического процесса, значительно укрепив в ряде стран позиции реакции и
ослабив революционные силы в этих странах. Но этим международные последствия
прихода гитлеровцев к власти не ограничились. Главным из них было то, что
установление гитлеровской диктатуры проложило путь ко второй мировой войне.
Конечно, глубинные причины войны коренились в закономерностях развития
империалистической системы. Но не будь власть в Германии передана фашистам,
германским монополиям, стремившимся к завоеванию мирового господства, было бы
значительно труднее подготовить и развязать мировой пожар.
Не удивительно, что и у
современников минувших событий, и у историков постоянно возникает ряд вопросов:
почему Германия стала родиной «коричневой чумы»; почему фашизм —
концентрированное выражение реакции — сумел укрепиться в
5
высокоразвитой промышленной стране,
располагавшей хорошо организованным рабочим классом, прочными традициями
пролетарской борьбы? Дать ответ па эти и другие вопросы, связанные с
установлением фашистского господства в Германии, нелегко.
Причины, приведшие к
трагическому для народных масс исходу событий начала 30-х годов, многообразны;
к тому же их давно и упорно фальсифицируют реакционные буржуазные историки. Они
преследуют при этом две цели: во-первых, обелить те общественные силы — крупных
капиталистов и помещиков, которые привели фашистов к власти и несут тяжелейшую
историческую ответственность за чудовищные преступления гитлеризма, а во-вторых,
помешать трудящимся извлечь необходимые выводы из тяжелого поражения
германского пролетариата, всех германских демократов в
Важно напомнить, как нацисты,
пользуясь поддержкой одних представителей германского крупного капитала и
попустительством других, превратились из малочисленной группы, не игравшей
сколько-нибудь серьезной роли в политической жизни страны, в крупнейшую силу,
развернувшую кровавый террор против всех инакомыслящих и сумевшую добиться власти.
Без точного знания обстоятельств этого вряд ли может быть успешной борьба
против неонацизма (несмотря на существенные различия условий начала 30-х годов
и наших дней).
В буржуазной литературе о
предыстории захвата власти гитлеровской кликой подчас встречаются и серьезные
работы, позволяющие, несмотря на неполноту подлинно научного анализа,
познакомиться с важными сторонами политики господствующих классов^ с
закулисными пружинами этой политики. Но в трудах буржуазных авторов все
внимание, как правило, сосредоточено на действиях «верхов». Выступления
народных масс, революционная борьба трудящихся и эксплуатируемых «низов» не
только не рассматриваются в этих работах, но большей частью откровенно
игнорируются, присутствуя лишь в качестве жупела «коммунистической угрозы».
Подобный подход неизбежно ведет к искажению исторической истины, ибо
элиминирует едва ли не важнейший социальный фактор событий, оказывавший, кроме
всего прочего, огромное влияние также и на планы и решения правящих кругов.
Историк-марксист, придавая
должное значение исследованию политики «верхов», закономерно ставит на первый
план как раз то, чем пренебрегает буржуазная историография,— борьбу классов,
творчество народных масс. Только всесторон-
6
нее изучение последнего, тщательный анализ
деятельности массовых организаций позволяют воссоздать объективную картину
событий. Этому и посвящена значительная часть данной работы, в которой па
основании различных, в том числе неопубликованных, источников сделана попытка
раскрыть масштабы массовых выступлений конца 20-х — начала 30-х годов и их значение.
Методологической основой работы
являются труды классиков марксизма-ленинизма, раскрывающие закономерности развития
капитализма, особенно на последней стадии его существования, когда происходит
революционная его замена социалистическим общественным строем. В этом смысле наибольшее
значение, как источник путеводных указаний для анализа обстановки, сложившейся в
начале 30-х годов, имел классический труд В. И. Ленина «Империализм, как высшая
стадия капитализма». Ленинское учение об империализме служит залогом методологически
правильного подхода к такому явлению, как германский фашизм, хотя прямых
высказываний по этому поводу в произведениях В. И. Ленина нет. Трудно
разобраться в той исторической ситуации с ее необычайно сложной расстановкой классовых
сил без изучения многих других работ В. И. Ленина, в которых рассматриваются
сущность и функции буржуазного государства, характер германского империализма,
тенденции развития классовой борьбы в послеоктябрьский период и т. д.
При анализе процессов,
происходивших в рассматриваемые нами годы в германском рабочем классе,
неоценимы труды В. И. Ленина по проблемам рабочего движения. Наиболее
существенной, па наш взгляд, для понимания германских проблем начала 30-х годов
является работа В. И. Ленина «Детская болезнь «левизны» в коммунизме». Хотя
условия по сравнению с
Для того чтобы понять причины,
вызвавшие невиданную остроту классовой борьбы в Германии тех лет, надо хорошо
представить себе положение, в котором она находилась после своего поражения в
первой мировой войне. На Германию был наложен ряд ограничений, которые (хотя
они и не соблюдались со всей предусмотренной точностью) резко изменили ее
положение на международной арене
и наложили сильнейший отпечаток на внутренние дела. Версальский договор, навязанный
Германии империалистами стран Антанты, поставил германский народ под двойное
ярмо — «своих» и иноземных империалистов. Тяжелым бременем легли на плечи
трудящихся репарационные платежи, взимание которых было рассчитано на многие
деся-
7
тилетия. Необходимость выплаты репараций
намного усилила приток иностранных капиталов; после инфляции
Не менее серьезными были
последствия положения, в котором очутилась Германия, для внутриполитического
развития страны. Версальский договор, особенно его статья, декларировавшая
исключительную ответственность Германии за возникновение первой мировой войны,
ущемляли национальные чувства и явились благодатной почвой для распространения
реваншистских настроений. Господствующие же классы не примирились ни с
территориальными потерями, ни с положением Германии как второстепенной державы.
Они мечтали о реванше, хотя и видели необходимость повременить с ним.
«Германия, — писал В. И.
Ленин, — побеждена, подавлена Версальским договором, но она обладает
гигантскими экономическими возможностями» 1. Правящие круги Германии
все упорнее саботировали репарационные платежи и неоднократно добивались их
снижений. По мере восстановления экономики возрастал военно-промышленный потенциал
страны, усиливалась политическая роль милитаристов.
В буржуазной историографии
имеет хождение тезис, что главным фактором, определившим приход фашистов к
власти, был мировой экономический кризис 2. Бесспорно, кризис сыграл
в этом смысле большую роль. Но был ли он причиной передачи власти Гитлеру или
только ускорителем тенденции, наметившейся уже ранее? Попытаться ответить на
этот вопрос, раскрыть глубинные цели господствующих классов Германии,
побудившие их сделать ставку на нацистскую партию, прежде всего реваншистские
замыслы крупного капитала, его намерение активизировать подготовку реванша,
наиболее удобным орудием чего были фашисты,—в этом мы видим свою задачу.
Нельзя также упускать из виду
тенденцию к дальнейшему развитию государственно-монополистического капитализма,
вызванную банкротством прежних форм капиталистического хозяйствования, с
невиданной резкостью обнаружившимся в период мирового экономического кризиса.
Оно породило среди крупных капиталистов убеждение (в те годы оно еще не стало всеобщим),
что выход — в активном вмешательстве государства в экономическую жизнь.
Гитлеровская партия с ее культом государства и в этом смысле не могла не
привлечь пристального внимания власть имущих.
Важной задачей было обнажить
весь механизм поддержки гитлеровцев германскими монополистами — не только
финансо-
--------
1 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т.
31, сто. 420.
2 J. Snell. Hitlers Erfolg.— «Aus
Politik und Zeitgeschichte», 1963, N 5, S. 31.
8
вой, но и политической, идеологической,
организационной. Изучение перипетий передачи власти нацистам должно дать
обстоятельный ответ на вопрос, чем вызывалась большая длительность процесса
фашизации в Германии, осветить ее причины. С этой точки зрения весьма
существенно исследовать противоречия в лагере буржуазии, разногласия между
отдельными ее группировками по вопросу о путях развития страны в условиях
глубочайшего (за всю историю капитализма) экономического кризиса. Без выяснения
существа и причин борьбы различных концепций управления страной, бытовавших среди
власть имущих, картина обстоятельств прихода фашистов к власти была бы заведомо
неполна. В исследовании этого аспекта темы автор исходил из глубокого замечания
Г. Димитрова в его докладе VII конгрессу Коммунистического Интернационала:
«Нельзя, товарищи, представлять себе приход фашизма к власти так упрощенно и
гладко, будто какой-то комитет финансового капитала решает такого-то числа
установить фашистскую диктатуру. В действительности фашизм приходит обыкновенно
к власти во взаимной, подчас острой борьбе со старыми буржуазными партиями или
с определенной частью их...»3.
Нивелировка составных частей
буржуазного лагеря означает игнорирование одного из наиболее важных положений
ленинизма—о двух формах господства буржуазии. В. И. Ленин неоднократно
указывал, что «буржуазия во всех странах неизбежно вырабатывает две системы
управления, два метода борьбы за свои интересы и отстаивания своего
господства... Это, во-первых, метод насилия, метод отказа от всяких уступок
рабочему движению... Второй метод — метод «либерализма», шагов в сторону
развития политических прав, в сторону реформ, уступок и т. д.»4
Только неуклонно придерживаясь этих ленинских положений, можно надеяться на
успех в исследовании классовых взаимоотношений начала 30-х годов. И в данном
случае марксистский анализ должен помочь па конкретном материале опровергнуть
апологетические писания буржуазных историков, утверждающих, будто стоявшие у
власти в Германии до установления гитлеровской диктатуры круги были
«убежденными» сторонниками демократии и «принципиальными» противниками фашизма.
Важно было выяснить, какими империалистическими интересами руководствовались
группировки буржуазии, стоявшие у кормила правления, какие проявляли колебания
в вопросе о передаче власти Гитлеру, показать, как оттеснялись на второй план
приверженцы «либерального» метода управления.
Чтобы рассмотреть во всей
совокупности проблему установления фашистской диктатуры в Германии и конкретные
формы,
--------------------
4 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т.
20, стр. 67.
9
которые вынуждена была принимать здесь
крайняя реакций, надо иметь достаточно четкое представление об уровне
экономического развития страны и социальном составе ее населения, масштабах и
особенностях германского рабочего движения. Вот основные сведения на этот счет.
Из 65 с лишним миллионов
жителей Германии, по данным на
Известно, что германское
рабочее движение имело славные традиции революционной борьбы, а в последние
десятилетия XIX в. германская социал-демократия была крупнейшей, передовой
партией II Интернационала. Но оппортунизм, свивший себе гнездо в ее
руководстве, послужил причиной раскола социал-демократии, ставшего неизбежным
после открытого предательства ее лидеров в начале мировой империалистической
войны 1914—1918 гг. Веймарской
республике существовали две рабочие партии: социал-демократическая, руководители
которой вели политику соглашательства с буржуазией; направленную против коренных
интересов большинства пролетариата, и коммунистическая, державшая курс на
подготовку условий для завоевания политической власти пролетариатом6.
Beрхушка СДПГ, пользовавшаяся в силу ряда причин значительным влиянием на миллионы
рабочих, решительно противилась не только ликвидации раскола рабочего движения,
но и установлению мало-мальски нормальных отношений между обеими партиями.
И хотя идея единства, сплочения всегда была жива в германском рабочем классе,
немало социал-демократов уже тогда было отравлено ядом антикоммунизма, что
явилось впоследствии одной из предпосылок широкoгo распространения нацистской
идеологии.
Однако это касается рабочего
класса в гораздо меньшей мере, чем средних слоев. А численность их в Германии
была велика. По некоторым подсчетам, городская мелкая буржуазия
------------------
5 S. Vietzke, H. Wolgemuth. Deutschland und die deutsche
Arbeiterbewegung in der Zeit der
Weimarer Republik 1919—1933. Berlin, 1966, S. 300.
6 «Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung», Bd. 3. Berlin. 1966, S. 176—177
10
(ремесленники, кустари, мелкие торговцы,
лица свободных профессий и др.) составляла в
Истоки особой политической
отсталости и национализма средних слоев в Германии коренились в специфике исторического
развития страны. Следствием незавершенности буржуазной революции 1848—1849 гг.
и крайней запоздалости объединения Германии были ужасающая косность
многочисленного немецкого мещанства и его восприимчивость к реакционным идеям.
Если говорить о политических
предпосылках фронтального наступления фашизма, которое началocь на исходе
Задолго до триумфа
Гитлера в Германии беспрепятственно распространялись самые (фантастические
поклепы на республиканский строй, призывы к его свержению, к захвату отобранных
у Германии чужих земель, злостные антисемитские измышления и т.п. Нацисты
явились лишь наследниками всего этого — правда в значительно больших масштабах
и в гораздо
------------------------
7 А. Сидоров. Фашизм и городские средние слои в
Германии. М., 1936, стр. 26.
8 Я. Grebing, Geschichte der
deutschen Arbeiterbewegung. Ein Uberblick. Munchen, 1966, S. 174.
11
более острых формах. В своей деятельности,
направленной на свержение республики фашисты выступали с еще невиданной
наглостью, видя безнаказанность предшественников9.
Нацисты ловко иcпoльзoвaли и
уcилeннo внедрявшуюся консервативными
силами идейку о «кризисе парламентаризма» в Германии. Рейхстаг — детище Веймарской
конституции — был сугубо буржуазным парламентом со всеми вытекавшими отсюда
пороками. Он не был адекватным выражением воли народа, ибо буржуазия располагала
необходимыми рычагами давления на миллионы избирателей, чтобы формировать лицо
парламента в угодном ей духе. Но, тем не менее, рейхстаг избирался всеобщим
голосованием при наиболее демократической — в условиях капитализма —
пропорциональной избирательной системе. Это давало прогрессивным силам
определенные возможности не только участвовать в его решениях, но в известном
смысле и влиять на эти решения. О кризисе буржуазного парламентаризма можно
было говорить только в широком, историческом смысле, сравнивая его с
демократией неизмеримо более высокого типа — социалистической. Но реакционеры
никакого отношения к такому пониманию вопроса не имели, и их крики о «кризисе
парламентаризма», как будет показано в работе, преследовали совсем иные, в
корне антидемократические цели. А жатву, в конечном счете, пожали гитлеровцы.
Мы остановились на некоторых
характерных чертах исторической обстановки и роли отдельных политических
факторов, позволяющих понять в целом, почему стал возможным быстрый взлет
гитлеровского движения. Но, как известно, конечный исход напряженной классовой
борьбы начала 30-х годов в Германии был далеко не ясен вплоть до 30 января
Изучение сложнейшего клубка
классовых и иных противоречий, от разрешения которых зависели, как показала
история, не только пути развития самой Германии, но и судьбы многих других
народов,— задача не простая, хотя бы потому, что мы еще не располагаем важными
материалами, которые до сих пор скрыты в сейфах капиталистических монополий
ФРГ, а также США и Англии. Тем не менее, в наше время уже имеется значительное
количество первостепенных по значению источников, которые позволяют разобраться
в сложном и к тому же нарочито запутанном буржуазной историографией переплете
событий, приведших к одному из «черных дней» мировой истории - захвату
власти фашистами в Германии.
------------
9 Стоит отметить, что гитлеровцы видели
определенный риск в беззастенчивости своих действий. Гитлер говорил позднее,
что «демократы могли распознать принципы национал-социализма.,, и грубо подавить
его в самом зародыше» (В. Graпzow. A Mirror of Nazism. London, 1964, p.
23. Но этого, к сожалению, не случилось — по причинам, которые мы и стремились
выяснить в настоящей работе.
12
ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
Источники
Со времени событий, которые
являются предметом рассмотрения в данной работе, прошло уже несколько
десятилетий и за десятилетия, естественно, накопилось немалое количество
источников по данной теме. Это, конечно, не значит, что все ее аспекты могут
быть освещены одинаково полно. Но в целом обилие источников по предыстории
установления гитлеровской диктатуры позволяет поднять изучение темы на такой
научный уровень, какой был недостижим не только в довоенные годы, но и в первый
период после окончания войны.
История классовой борьбы в
период наступления фашизма в Германии многообразна в своих проявлениях, и этому
соответствует значительная разнохарактерность источников, необходимых для ее
исследования. От статистических выкладок, отражающих развитие и глубину
экономического кризиса 1929— 1933 гг., до протоколов заседаний имперского
правительства, от дипломатических донесений до материалов судебных процессов
над гитлеровскими военными преступниками и от стенографических отчетов
рейхстага до пламенных антифашистских листовок коммунистической партии — таков
диапазон использованных документов. К этому беглому перечню можно добавить
прессу, мемуары и дневники участников и современников событий, их переписку,
документацию политических партий, агентурные донесения об их деятельности и др.
Привлеченные нами архивные
материалы дополнили важными сведениями то, что было почерпнуто из печатных
источников, а также из литературы. Документы, обнаруженные нами в архивах,
впервые вводятся в научный оборот (за исключением нескольких случаев, когда за
время создания данной работы они оказались уже кем-либо опубликованными).
Поэтому целесообразно начать обзор именно с них.
13
Из советских архивов наибольшее
значение для нас, бесспорно, имели фонды Государственного Музея революции СССР,
содержащие богатейшие материалы о деятельности Коммунистической партии
Германии. Эти фонды включают в себя большое количество листовок, выпускавшихся
партией в период борьбы против наступления фашизма, внутрипартийные документы
партии (здесь выделяется фонд циркулярных писем секретариата ЦК КПГ местным
организациям), ее брошюры и газеты (некоторые из них отсутствуют в других
хранилищах Советского Союза). Все эти источники содержат множество фактов,
наблюдений, выводов относительно обстановки тех лет, политики господствующих классов,
их взаимоотношений с фашизмом и т. д. Они позволяют гораздо полнее представить
себе беззаветную борьбу немецких коммунистов против фашизма в 1929—1933 гг.,
увидеть сильные и слабые стороны КПГ, уяснить причины последних.
Значительную ценность имеют
различные материалы, сосредоточенные в фонде руководящего деятеля СДПГ В.
Дитмана, хранящиеся в Центральном партийном архиве Института
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (ф. 215). В его архиве сравнительно мало
письменных документов, которые относились бы к интересующему нас периоду, но
зато имеется очень большое количество других источников — листовок и уникальных
брошюр, публиковавшихся различными организациями, газет, журналов и вырезок,
картотек и т. п. Все это систематизировано и подобрано тематически, иногда
снабжено пометками самого Дитмана. Ценность этих материалов заключается, прежде
всего, в том, что большинство из них отсутствует в каких-либо других
хранилищах.
Своеобразные источники
предоставил автору Центральный государственный архив Октябрьской революции и
социалистического строительства СССР. В числе использованных нами материалов —
фонд Телеграфного Агентства Советского Союза за период конца 20-х — начала 30-х
годов, который знакомит с некоторыми малоизвестными деталями политической жизни
Германии, а подчас содержит сведения о положении и борьбе германских
трудящихся, позволяет лучше понять их помыслы.
Нами использованы также
микрофильмы, содержащие материалы имперского суда и прокуратуры по обвинению
различных деятелей Коммунистической партии Германии в «государственной измене»
или «попытках ниспровержения существующего строя».
В Архиве внешней политики
СССР нами были изучены обзоры печати, регулярно составлявшиеся в советском
посольстве в Берлине, а также консульские донесения. Обзоры печати посвящены
внутриполитическим вопросам и обнаруживают пре-
14
красное знание обстановки. Они содержат
прогнозы дальнейшего развития политических событий в Германии, находившие
подтверждения в реальной действительности.
Микрофильмы различных
немецких документов изучены также в Историко-дипломатическом архиве. Здесь,
прежде всего, следует отметить материалы германского министерства иностранных
дел — его циркуляры посольствам и миссиям, посвященные характеристике
внутреннего положения; они свидетельствуют о весьма благожелательном отношении
высших правительственных органов к гитлеризму. Использован фонд бывшего
германского посла в Москве Дирксена: его переписка с крупными промышленниками,
политическими деятелями и дипломатами, содержащая сведения о положении и
перипетиях политической борьбы в Германии начала 30-х годов, о позиции правящих
кругов (а также посла и его корреспондентов) по вопросу об отношениях с
Советским Союзом. В Историко-дипломатическом архиве имеются и микрофильмы
личных фондов бывшего рейхсканцлера лидера социал-демократической партии Г.
Мюллера (что позволяет полнее охарактеризовать становление политики «меньшего
зла», проводившейся верхушкой СДПГ) и руководящего деятеля Центра Штегервальда.
Из неопубликованных
материалов, послуживших источниками работы, отметим также материалы Отдела
рукописных фондов Института истории АН СССР — копии донесений австрийского
посла в Берлине своему правительству. Посол, а также поверенный в делах имели
широкий круг знакомств среди различных слоев «высшего общества» и довольно
точно отражали в своих посланиях в Вену обстановку и намерения правящих кругов.
Источниками первостепенной
важности для нашей работы явились документы из архивов Германской
Демократической Республики; часть этих материалов получена в виде микрофильмов,
другая выписана непосредственно на месте.
Из числа материалов,
почерпнутых нами из Центрального немецкого архива в Потсдаме, особую ценность
для характеристики политики правящих кругов представляет фонд президента
республики, где содержатся разнообразные материалы, как исходившие из
канцелярии самого президента, так и поступавшие туда извне — от крупных
промышленников и помещиков, от реакционных организаций и т. п. Не менее важен
лишь недавно (в
15
чрезвычайно важный материал для суждения о
том, как вырабатывались те или иные решения, каковы были подлинные, а не
замаскированные взгляды главы правительства и отдельных министров (нередко
отстаивавших противоречивые интересы) на актуальные политические вопросы.
Изучен ряд дел из
необозримого фонда имперского министерства внутренних дел — документы,
касающиеся важных политических событий, взаимоотношений министерства с
политическими партиями, и другие материалы, собиравшиеся политическим отделом.
Кроме того, использована некоторая часть источников полицёйско-агентурного
характера. Особенно много таких материалов относилось к коммунистической
партий, в частности к ее попыткам добиться создания единого рабочего фронта и
конкретным проявлениям этого единства, за которым полицейские власти
внимательнейшим образом следили, с удовлетворением отмечая саботаж его
социал-демократическими лидерами. Аналогичные материалы, касающиеся
деятельности коммунистической партии, почерпнуты также в Центральном партийном
архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК СЕПГ. В них нередко содержатся
документы КПГ, какими-то путями попавшие в руки полиции.
Среди других фондов
Центрального немецкого архива, привлеченных нами, отметим фонд Пангерманского
союза, раскрывающий весьма любопытные аспекты политики консервативных сил.
Взаимоотношения гитлеровцев с воротилами крупной промышленности Рура накануне
прихода фашистов к власти хорошо видны по документам, собранным в фонде
тогдашнего министра внутренних дел Брахта. Ценным дополнением к опубликованным
материалам происходивших в Нюрнберге в 1947—1949 гг. судебных процессов над
гитлеровскими военачальниками, крупными промышленниками, правительственными
чиновниками и дипломатами служит комплект документов этих процессов, не так
давно полученный Центральным немецким архивом. Сравнительно немного документов
почерпнуто в мерзебургском отделении Центрального немецкого архива. Это, в
частности, секретная переписка, касающаяся предыстории государственного
переворота в Пруссии 20 июля
Об изучаемых в данной работе
событиях сохранилось немало первостепенных по своему значению печатных
источников, без привлечения которых сколько-нибудь серьезное исследование
невозможно. Это в первую очередь материалы Коммунистического Интернационала и
КПГ. Широко использованы нами материалы XI, XII, а также XIII пленумов ИККИ и
VII конгресса Коминтерна, содержащие большое количество фактического материала
и важные выводы об экономике, политическом положении, рабочем движении в
Германии. Особую ценность для исследования предыстории установления
гитлеровской дик-
16
татуры представляет VII конгресс
Коммунистического Интернационала, давший развернутую оценку движущих сил и причин
прихода Гитлера к власти. В определенной степени это было сделано уже в
отчетном докладе о работе Коминтерна, с которым выступил В. Пик. Но наиболее
глубоко вопросы, связанные с событиями в Германии, рассмотрел Г. Димитров в
своем докладе о наступлении фашизма и задачах Коммунистического Интернационала.
Он всесторонне проанализировал сущность фашизма, обстановку и социальные силы,
породившие его и позволившие ему установить свое господство над Германией'. Для
настоящей работы огромное значение имеет постановка Г. Димитровым вопросов об
едином и Народном фронте, о буржуазной демократии, о слабостях в деятельности
КПГ и др. Много дали при работе над темой труды боевого руководителя германских
коммунистов Э. Тельмана. Его выступления и статьи отличались страстностью
подлинного революционера, всесторонним знанием поставленных вопросов,
стремлением преодолеть при их решении сектантскую узость. Перечислить все работы
Э. Тельмана, использованные нами, нет возможности, но хочется особо выделить его
ответы на вопросы группы рабочих — социал-демократов об едином фронте и доклад
«Об уроках экономических стачек и борьбы безработных» на XII пленуме ИККИ; он
был дополнен большой речью о положении в Германии, в которой Э. Тельман
убедительно показал вредоносность сектантской тактики Г. Неймана и его
сторонников.
Богатейший материал для
изучения нашей темы содержат произведения другого славного деятеля германского
рабочего движения, В, Пика. Помимо его выступлений в рассматриваемые годы в
рейхстаге и прусском ландтаге, на митингах и собраниях, неоценимое значение
имеют уже упоминавшийся отчетный доклад В. Пика на VII конгрессе Коминтерна и
его доклад на Брюссельской конференции, состоявшейся в том же
------------------------------
2 W.
Pieck. Der neue Weg zum gemeinsamen Kampf fur den Sturz der Нitlerdiktatur. Berlin, 1957.
"
17
Автор изучил многочисленные
пропагандистские издания КПГ, содержащие важные сведения о грабительской
политике правящих кругов, об антинародном существе целей и методов гитлеровской
партии, о близорукой доктрине «меньшего зла» руководства социал-демократии. Особенный
интерес представляют документы коммунистической фракции рейхстага 3.
Что касается коммунистической прессы, то она представлена в настоящей работе,
прежде всего центральным органом КПГ газетой «Роте фане». То был не только
страстный и неутомимый пропагандист марксистско-ленинских идеи, по и источник
самого разнообразного фактического материала — от развития экономического
кризиса и бедствий народных масс до закулисных связей гитлеровской клики с
монополистическим капиталом. Но фашизация политической жизни все более сужала
действенность «Роте фане», которая подвергалась нарастающим преследованиям
властей. В
Деятельность коммунистической
партии и взгляды ее выдающихся представителей прослеживаются также по такому
источнику, как протоколы германского рейхстага. Депутаты-коммунисты
использовали парламентскую трибуну для беспощадного разоблачения антинародных
мероприятий господствующих классов и злостного обмана трудящихся масс
нацистскими демагогами, вели в рейхстаге упорнейшую борьбу против ликвидации
элементарных политических свобод, за улучшение положения всех, на кого
монополисты стремились переложить тяготы экономического кризиса. Протоколы
рейхстага (и приложения к ним—законопроекты, вносившиеся фракциями) являются
источником и более общего характера, позволяющим представить себе лицо всех
имевшихся в нем политических партий. Поэтому столь важно использование этого
источника.
Из материалов, современных
рассматриваемым событиям, следует также отметить стенографический отчет
процесса по делу о событиях 20 июля
---------------------------
3 «21 Monate Hermann Muller-Regierung».
Berlin, 1930; «4 Monate Bruning-Regierung». Berlin, 1930; «Zwei Jahre Bruning-Diktatur».
Berlin, 1932.
4 «Preussen contra Reich vor dem
Staatsgerichtshof. Berlin, 1933.
18
ма существенные для уяснения замыслов этой
могущественной организации5, погодные сборники основных фактов
политической жизни (как правило, отражавшие лишь действия и высказывания
правящих кругов) 6. Данные о развитии экономического кризиса и
положении широких масс были почерпнуты из издававшегося Ю. Кучинским журнала7,
главным же образом — из вышедшего уже в 30-х годах статистического издания
советских экономистов 8.
Много внимания в процессе работы
было уделено ознакомлению с буржуазной прессой (как в комплектах, если они
имелись, так и по газетным вырезкам ОРФ Института истории АН СССР) и органами
печати СДПГ. Германская пресса конца 20-х — начала 30-х годов весьма
многочисленна и разнокалиберная. Наиболее полно обследованы такие типичные для
целых групп печати буржуазные газеты, как «Франкфуртер цейтунг» и «Берлинер
тагеблат», «Дейче альгемайне цейтунг», «Берлинер Берзен-курир» и «Дейче
бергверксцейтунг», а из социал-демократических изданий — центральный орган СДПГ
«Форвертс» и ряд журналов («Гезельшафт», «Дас фрайе ворт», «Зоциалистише
монатсхефте», «Нойе блеттер фюр ден зоциализмус» и др.).
Источником первостепенной
важности остаются материалы Нюрнбергского процесса главных немецких военных преступников
9. Содержащиеся в протоколах процесса, а еще более в документах,
представленных обвинением, факты раскрывают весьма существенные аспекты сговора
правящих кругов с нацистами. Дополнением к ним является 14-томное издание
протоколов (и приложений к ним) судебных процессов над немецкими военными
преступниками, состоявшихся в Нюрнберге в 1947—1949 гг. 10. Но
американские публикаторы оставили за бортом весьма любопытные документы (мы
судим по уже упоминавшемуся архивному экземпляру протоколов этих процессов,
находящемуся в Центральном немецком архиве в Потсдаме). К перечисленному
примыкают изданные в
-----------------------
5 «Veroffentlichungen des Reichsverbandes der
deutschen Industrie», 1929— 1931.
6 «Schulthess'Europaischer Geschichtskalender»,
1930—1933; С Horkenbach. Das Deutsche Reich von 1918 bis heute. Berlin,
1933, 1935.
7 «Finanzpolitische Korrespondenz». Berlin,
1930—1932.
8 «Мировые экономические кризисы 1848—1935 it», т.
9 «Нюрнбергский процесс. Сб. материалов», т.
I—VII. М., 1957—1961; «Trial of Major War Criminals before the International Military
Tribunal», Vols. I—XLII. Nuremberg, 1947—1949; «Nazi Conspiracy and
Aggression», Vols. I —XI. Washington, 1946—1948.
10 «Trials of War Criminals before the Nuremberg Military
Tribunals», Vols. I—XIV. Washington, 1950-1953.
19
рывной деятельности гитлеровцев против
Веймарской республики в конце 20-х — начале 30-х годов 11.
Переходя к изданиям более
позднего времени, отметим, прежде всего, документальные публикации Германской
Демократической Республики. Особенно большое научное значение имели разысканные
и напечатанные в
Большой интерес представляет
подготовленная и прокомментированная К. Госвайлером подборка протоколов бесед
между Гинденбургом и руководителями буржуазных партий в ноябре
В последние годы историки
Германской Демократической Республики уделяют много внимания изучению
«Антифашистской акции», развернувшейся в
Немало фактического материала
извлечено нами из изданий, выходящих в Западной Германии (частично также в
Англии и США). Первой более или менее крупной публикацией документов по
рассматриваемой теме была напечатанная в нескольких номерах журнала «Дейче рундшау»
за 1950—1951 гг. личная
------------------
11 R. М. W. Kempner. Blueprint
of the Nazi Underground — Past and Future Subversive Activities,— «Research
Studies of the State College of Washington», June 1945.
12 «Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft», 1956, N 2.
13 «Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft, 1957, N 4.
14 «Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft», 1958, N3.
15 «Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft», 1967, N 4.
16 «Zeitschrift fur Militargeschichte», 1965, N 2.
17 «Beitrage zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung», 1962, N
4.
18 «Die
Antifaschistische Aktion. Documentation und Chronik». Berlin, 1965.
20
переписка военного министра в кабинетах
Мюллера и Брюнинга генерала В. Тренера. Подготовил публикацию американский
ученый Фелпс. Он же в
Сказанное не умаляет интереса
отдельных публикаций указанного журнала, в частности посвященных краху
германской социал-демократии в
------------------------
19 «Deutsche
Rundschau», 1952, N 10.
20 «Die
Welt als Geschichte», 1951, N 2.
21 См.
обзоры этого журнала в «Вопросах истории» (1956, № 12) и «Новой и новейшей
истории» (1961, № 2).
22 «Zum Sturz Brunings».— Vierteljahrshefte fur
Zeitgeschichte», 1953, N 3.
23 «Zur
Geschichte des «Preussensehlags» am 20. Juli 1932».— «Vierteljahrshefte fur
Zeitgeschichte», 1961, N 4.
24 «Untergang der Sozialdemokratie 1933.— «Vierteljahrshefte fur
Zeiteeschichte», 1956, N 2.
25 «Neue Dokumente zur Geschichte der Reichswehr
1930—1933»,—«Vierteljahrshefte fflr Zeitgeschichte», 1954, N 4.
21
В
Нет сомнений, что Мюнхенский
институт современной истории, предпринимая издание дневника Г. Пюндера за 1929—
1932 гг.30, преследовал апологетические целя. Пюндер, являясь в те
годы статс-секретарем рейхсканцелярии, активно участвовал в разработке и
проведении политического курса, и его дневник, по замыслу издателей, был
призван показать попытки Брюнинга и всей правящей верхушки помешать приходу
фашистов к власти. Но на деле этот дневник отражает совсем другую картину,
свидетельствует о глубокой антидемократичности и антинародности мировоззрения
рейхсканцлера и его окружения, о том, что ограничение норм буржуазной
демократии было ими обдумано заранее.
--------------------------
26 «Ausgewahlte Dokumente zur Geschichte des Nationalsozialismus 1933—
1945», Bd. I —V. Bielefeld, 1961.
27 W. Jochmann. Nationalsozialismus und Revolution. Ursprung
und Geschichte der NSDAP in Hamburg 1922-1933. Frankfurt a/M., 1963.
28 M. Domarus. Hitler. Reden und Proklamationen
1932—1945. Bd. I. Munchen, 1965.
29 В ФРГ переизданы и «труды» других фашистских главарей,
кроме, пожалуй, дневника Геббельса периода борьбы нацистов за власть. Этот
дневник использован нами, ибо, несмотря на известную всем лживость его автора, он,
тем не менее, содержит некоторые достоверные факты, подтверждаемые другими
источниками, а также весьма любопытные признания о положении внутри
гитлеровской партии и т. п.
30 И. Punder. Politik in der Reichskanzlei. Aufzeichnungen
aus den Jahren 1929—1932. Stuttgart, 1961.
22
Во второй половине 60-х годов
увидел свет очень ценный источник, о существовании которого до тех пор вообще
ничего не было известно,— две беседы Гитлера с правобуржуазным деятелем
Брейтингом в
И в специальных изданиях
документов, и в документальных приложениях к монографическим исследованиям (о
них будет сказано ниже, во втором разделе данной главы) трудно найти источники,
касающиеся связей нацистской партии с монополиями, роли гитлеризма как орудия
крупной буржуазии. Напротив, в ФРГ к 30-летию установления фашистской диктатуры
вышла из печати книга, посредством которой предпринимательская организация
«Немецкий промышленный институт» пыталась начисто зачеркнуть взаимосвязь
воротил денежного мешка с гитлеровской кликой 32. Этой
вылазке дали отповедь западногерманские профсоюзы. Однако даже основные факты,
касающиеся поддержки фашистов германскими монополиями, в Западной Германии
остаются многим неизвестными.
Поэтому прогрессивные круги
ФРГ предоставили молодому ученому из ГДР Э. Чихону возможность познакомить
западногерманских читателей с результатами своих исследований на данную тему.
Он изложил их сперва в журнальной статье, а затем в виде отдельной книги33.
В обоих случаях к исследованию приложены ценные документы, почерпнутые автором
в архивах ГДР, ФРГ и Западного Берлина и в большинстве своем ранее не
публиковавшиеся. Они создают впечатляющую картину того, как германские
монополии пришли Гитлера к власти.
-------------
31 Е. Calic. Ohne Maske. Hitler —
Breiting Geheimgesprache 1931. Frankfurt a/M., 1968; см. также «За рубежом»,
1969, № 19, стр. 28 - 29.
33 «Legende von Hitler und der Industrie».
Koln, 1963.
33 E. Czichon. Wer verhalf Hitler zur
Macht? Zum Anteil der deutschen Industrie an der Zerstorung der Weimarer Republik».
Koln, 1967; «Blatter fur deutsche und internationale Politik», 1966. № 10.
23
Необходимо теперь
остановиться на своеобразном, весьма субъективном, но неотъемлемом для
исторического исследования источнике — мемуарах непосредственных участников или
современников событий. Воспоминания, касающиеся времен Веймарской республики,
очень многочисленны, и немалая часть их затрагивает исследуемые нами годы34.
Если сразу же после войны наибольшее число мемуаров принадлежало перу деятелей
социал-демократии, то затем положение изменилось — наметилось преобладание
бывших нацистов в качестве авторов воспоминаний. Появился даже жанр
«посмертных» мемуаров, когда издаются записи (достоверность которых оставляет
сомнения) казненных военных преступников, в том числе Риббентропа, Розенберга,
Франка и др.
В своей массе мемуары бывших
гитлеровцев лишены какого-либо познавательного значения, они грубо извращают
обстановку и ход событий. Как правило, их авторы усиленно размахивают жупелом
«коммунистической опасности», якобы угрожавшей Германии в 30-х годах. Наиболее
очевидные образцы фальсификации содержит книга Ф. Папена, за что она была
подвергнута резкой критике даже некоторыми буржуазными учеными35.
Немалая часть искажений и передержек обнаруживается при сопоставлении мемуаров
с протоколами предварительных допросов и судебных заседаний Нюрнбергского
военного трибунала, когда Папен, как и другие главари «Третьей империи» в
первые месяцы после войны, вынужден был признавать свои преступления. То же
касается откровений Шахта, который решающим образом способствовал приходу
Гитлера к власти 36, или статс-секретаря президента О. Мейсснера 37.
И все же и в подобных книгах содержатся детали, которые могут быть использованы
в исследовании.
Существенные штрихи для
характеристики обстановки, в которой проходила упорная борьба сил демократии и
реакции в начале 30-х годов, можно почерпнуть из мемуаров буржуазных деятелей,
не принадлежавших к открыто фашистскому лагерю. Можно назвать в качестве
примера книгу бывшего военного министра Гесслера, рассказывающего о своих планах
отказа
------------------------------
36 И. Schacht. 76 Jahre meines Lebens.
Bad Worishofеn, 1953.
37 O. Meissner. Staatssekretar unter
Ebert — Hindenburg — Hitler. Hamburg 1950.
24
от конституции и о весьма благожелательном
отношении к ним правящих кругов38. В воспоминаниях бывшего
рейхсканцлера, а в 1930—1933 гг. председателя Рейхсбанка Лютера, человека,
хорошо осведомленного, мы встречаемся с мотивом, характерным для многих
буржуазных авторов, пишущих о событиях начала 30-х годов: заверениями в том,
что, мол, никто не мог предугадать существа нацизма до того, как он пришел к власти
39. Этот тезис несостоятелен от начала до конца, и в настоящей
работе мы стремимся показать это. Существенный интерес представляют мемуары
английского журналиста С. Делмера, в рассматриваемые годы весьма близкого к
нацистским лидерам и сообщающего малоизвестные подробности их деятельности 40.
Воспоминания руководящих
деятелей социал-демократии, как правило, носят характер самооправданий. Таковы,
например, книги О. Брауна, К. Зеверинга, А. Гржезинского, Ф. Штампфера и др. Но
вместе с тем в них нередко содержатся любопытные признания. Наибольшее внимание
перечисленных авторов, естественно, привлекают события 20 июля
К сожалению, число мемуаров
коммунистов или других деятелей прогрессивного лагеря весьма невелико. В
значительной степени это объясняется сугубо объективными причинами: очень
многие германские коммунисты или другие противники гитлеризма, которые могли бы
стать авторами мемуаров, погибли в фашистских концлагерях и застенках; те же,
кто остался в живых, все свои силы посвятили не писанию воспоминаний, а
преодолению наследия нацистского государства и активному строительству новой
жизни на немецкой земле, а в Западной Германии — борьбе против реакции и
неофашизма.
Счастливое исключение — Р.
Шерингер, видный западногерманский коммунист, в далеком прошлом последователь
Гитлера, быстро разочаровавшийся в нацизме и еще в начале 30-х го-
-------------------------------
38 О. Gessler. Reichswehrpolitik in der Weimarer Zeit.
Stuttgart. 1958.
39 H. Luther. Vor dem Abgrund. 1930—1933. Berlin, 1964.
40 S. Delmer. Trail Sinister. An autobiography, vol. 1.
London, 1961.
41 W. Hoegner. Die verratene Republik. Geschichte der
deutschen Gegenrevolution. Munchen, 1958; idem. Der schwierige
Aussenseiter. Munchen, 1959.
25
дов написавший об этом42. В
50-х годах Шерингер вновь взялся за перо и написал интереснейшую книгу о своем
жизненном пути, подробно рассказав о судебном процессе над ним и его коллегами
в
Чрезвычайный интерес
представляют мемуары ветерана германского рабочего движения О. Бухвица; в
рассматриваемые нами годы он принадлежал к социал-демократии и в своей книге
сообщает весьма существенные факты о деятельности партии, давая принципиальную
оценку обстановки, в которой проходила борьба сил демократии и реакции44.
Заслуживает упоминания также книга бывшего генерала В. Мюллера, в 40-х годах
осознавшего огромный вред, нанесенный Германии милитаризмом, и перешедшего на
службу народу. В прошлом один из сотрудников генерала Шлейхера, он сообщает
малоизвестные факты о махинациях военщины, в частности об ее роли в событиях 20
июля
Таковы основные источники, па
которых базируется наша книга.
Литература о предыстории передачи власти
Гитлеру
Литература об установлении
господства фашизма в Германии чрезвычайно многочисленна. Это не удивительно: мы
имеем дело с событием первостепенного исторического значения. Работы,
публиковавшиеся в 30-х годах, носили, естественно, чисто публицистический
характер и, как правило, были посвящены не специально предыстории установления
гитлеровской диктатуры, а вопросу о существе германского фашизма вообще и его
политике после прихода к власти. Но и в них делались попытки объяснить причины
и движущие силы этого события, назвать его непосредственных виновников.
Некоторые материалы, свидетельствовавшие,
что гитлеризм является детищем германских монополий и юнкерства, приводились в
известной «Коричневой книге о поджоге рейхстага и гитлеровском терроре»,
вышедшей в
-----------------------------
42 Р. Шерингер. Мой путь к красному фронту.
Мемуары. Харьков, 1933.
43 R. Scheringer. Das grosse Los
unter Soldalen, Bauern und Rebellen. Hamburg, I960.
44 О. Бухвиц. 50 лет функционером германского рабочего
движения. М., 1959.
45 В. Мюллер. Я нашел подлинную родину. Записки
немецкого генерала. М., 1964.
26
Главное достоинство этих (и
аналогичных) изданий в том, что они давали четкую классовую характеристику
германского фашизма, на фактах показывая, что не мелкобуржуазный в своей основе
социальный состав нацистской партии, а ее цели, диктуемые покровителями Гитлера
— крупными промышленниками и аграриями, определяют ее существо. Это было очень
важно, учитывая царившую в тогдашней литературе (не только буржуазной и
социал-демократической) неясность в вопросе о том, что собой представляет
гитлеризм с его безудержной националистической и социальной демагогией.
Но в работах, выходивших до
VII конгресса Коммунистического Интернационала, имелись и неверные оценки,
касавшиеся, в частности, вопроса о борьбе рабочего класса в годы,
предшествовавшие установлению фашистской диктатуры, неясности в понимании
самого термина фашизм, за который иногда принимали иные явления, безусловно,
реакционные, но все же не фашистские в том смысле, который мы теперь вкладываем
в это понятие.
Наиболее важна в литературе
30-х годов книга английского ученого-коммуниста Р. Палм-Датта46, в
которой исследуются исторические условия прихода гитлеровцев к власти,
раскрываются цели господствующих классов Германии. Палм-Датт убедительно
показывает, что установление нацистского господства могло быть предотвращено,
если бы не политика «меньшего зла» тогдашних лидеров СДПГ.
Большая часть работ на
интересующую нас тему принадлежала в те годы немецким эмигрантам, в первую
очередь социал-демократам, а также некоторым деятелям буржуазных партий —
противникам Гитлера. В этих книгах нередко в первоначальной, зародышевой форме
уже содержались тезисы, которые впоследствии были развиты в исследованиях
буржуазных историков. Таково, например, положение о том, что в победе фашизма
главная вина лежит на народе. В книжонке, вышедшей в
----------------------------
48 Р. Палм-Датт. Фашизм и социалистическая революция. М.,
1935.
47 G. Decker. Revoke und Revolution. Karlsbad, 1934.
27
ровался; по его словам, им «не хватало
решимости отстаивать демократические установления от потрясений кризиса»48.
В довоенной литературе по
истории германского фашизма видное место принадлежит двум буржуазным
авторам-антифашистам — К. Гейдену и Г. Раушнингу. Оба выпустили на эту тему по
нескольку книг, снискавших широкую известность. Работы Гейдена насыщены богатым
фактическим материалом (автор знал многое, о чем писал, из первых рук), они
дают весьма верную картину перипетий борьбы нацистов за власть и соперничества
отдельных группировок в самом фашистском лагере, содержат яркие характеристики
нацистских лидеров. Ом называет имена некоторых крупных промышленников,
финансировавших гитлеровскую партию 49. Но работы Гейдена неглубоки,
и понимание классового характера фашизма как орудия монополий ему недоступно
(Гейден отрицает это определение). Характерно, что его главный труд
представляет собой не систематическое изложение истории германского фашизма, а
биографию Гитлера 50. Так Гейден положил начало подмене крупного,
хотя и реакционного движения личностью Гитлера, что является одной из главных
отличительных черт современной буржуазной литературы о германском фашизме.
Несколько иной характер носят
произведения Г. Раушнинга, в прошлом нациста и президента данцигского
(гданьского) сената, порвавшего с гитлеровцами и после этого неутомимо
разоблачавшего их опасность для мира. Мировоззрение Раушнинга сугубо
идеалистическое, и марксистский взгляд на природу гитлеризма ему чужд, но в
своих книгах он, исходя из собственного опыта, из изучения нацистских писаний,
нарисовал чрезвычайно реалистическую картину возвышения гитлеровской клики,
раскрыв некоторые малоизвестные обстоятельства и назвав общественные силы,
способствовавшие приходу к власти партии 51.
Из немногочисленных крупных
исследований тех лет назовем книги Артура Розенберга по истории Веймарской
республики 52 и английского историка Р. Кларка о падении этой
республики53. Розенберг, в прошлом коммунист, депутат рейхстага от
КПГ, был настроен по отношению к компартии враждебно и значительную долю вины
за приход фашистов к власти возлагал на нее. И в этом, и в точке зрения о
предопределенности
----------------------------
48 F. Stampfer. Die ersten 14 Janre der deutschen
Republik. Karlsbad, 1936.
49 К. Гейден. История германского фашизма. М., 1935,
50 К. Heiden. Adolf Hitler. Das Zeitalter der
Verantwortungslosigkeit. Zurich, 1936.
51 H. Rauschning. Gesprache mit Hitler. Zurich — New York, 1940;
idem. The voice of destruction. New York, 1940.
52 A. Rosenberg. Geschichte der deutschen Republik.
Karlsbad, 1936.
53 R. Clark. The Fall of the German Republic. London, 1934.
28
краха Веймарской республики (он выводит
эту предопределенность уже из поражения рабочего класса в Ноябрьской революции)
он предваряет не только позднейшую реформистскую, но и буржуазную литературу.
Книга Кларка в еще большей степени основана на тезисе о «неизбежности»
установления гитлеровской диктатуры.
Заслуживает упоминания
монография другого английского автора — исследование Уилера-Беннета о
Гинденбурге 54. Хорошо осведомленный о перипетиях закулисных
махинаций последних лет Веймарской республики — он был связан с Брюнингом,
проживавшим тогда в Англии, и использовал архив последнего,— Уилер-Беннет
целиком поглощен их воспроизведением. Пожалуй, он занимает первое место в длинном
ряду буржуазных авторов, для которых рассматриваемые события — исключительно
история верхушечных комбинаций, Брюнинг же, а следовательно, и круги, которые
он представлял,—убежденные противники фашизма и сторонники демократии.
Примечательно, что первую
отповедь эта несостоятельная точка зрения получила в самой Англии. В годы
второй мировой войны Б. Менне опубликовал работу, в которой было показано
подлинное существо политики правительства Брюнинга. «В политической истории
Германии,— писал автор,— нет более постыдного эпизода» 55.
В те же годы увидела свет
крупная работа, написанная в целом с марксистских позиций,— двухтомный очерк
новейшей истории Германии П. Меркера, вышедший в Мексике, где автор жил в
эмиграции, на немецком языке56. В распоряжении Меркера не было
никаких архивных материалов, основным источником для него явилась пресса, чьи
сообщения далеко не всегда были достоверны; поэтому в его книге встречаются
фактические ошибки, неподтвержденные версии. Но в целом его работа — первое
исследование такого масштаба в прогрессивной литературе — дает правильное
представление о том, какие силы и при помощи каких средств привели к власти
гитлеровскую клику.
После окончания второй
мировой войны сложились условия для работы немецких ученых-марксистов над проблемами
фашизма. Первыми за дело взялись крупные деятели рабочего движения
публицисты-коммунисты, создавшие ряд работ, давших направление исследованиям по
новейшей истории Германии. Такова была книга В. Ульбрихта, раскрывшая всю
лживость нацистской демагогии о «немецком социализме», кото-
--------------------------
54 J.
W. Wheeler-Bennett. Wooden Titan. Hindenburg in Twenty Years of German
History. New York, 1936.
55 B.
Menne. The Case of Dr. Bruening. London, [1942].
56 P.
Merker. DeutschCand. Sein oder nicht sein, Bd. 1. Mexico, 1944.
29
рый они якобы осуществили в Германии57.
В этой работе й сжатом виде охарактеризованы причины установления гитлеровской диктатуры и
социальные силы, виновные в этом. В. Ульбрихт в дальнейшем продолжил работу над
своей книгой, и в
Важным исследованием, в
котором были использованы материалы Нюрнбергского процесса и другие, ставшие
известными к тому времени документы, была книга А. Нордена «Уроки германской
истории», вышедшая па немецком языке уже в
После окончания войны в
Восточной Германии плодотворно продолжилась нарушенная эмиграцией научная
деятельность видного марксистского экономиста и историка Ю. Кучинского. В
Истории беззаветной борьбы
Коммунистической партии Германии против наступления фашизма немецкие
историки-марксисты посвятили ряд более или менее крупных исследований. В
--------------------
57 W. Ulbricht. Die Legende vom «deutschen Sozialismus».
Berlin, 1946.
58 W. Ulbricht. Der faschistische deutsche Imperialismus (1933—1945).
Berlin, 1952.
59 А. Норден. Уроки германской истории. М., 1948.
60 W. Pieck. Zur Geschichte der Kommunistischen Partei Deutschlands.
Berlin, 1949,
61 Ю.
Кучинский. История
условий труда в Германии. М., 1949.
62 Y. Kuczynski. Die Geschichte der
Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus, T. I. Bd. 15, 16, Berlin, 1963.
30
национального и социального освобождения
КПГ (август
Все эти работы были как бы
подготовкой к созданию главного и наиболее важного труда немецких
историков-марксистов об освободительной борьбе трудящихся Германии —
многотомной истории германского рабочего движения, где пристальное внимание
уделено периоду кануна передачи власти нацистской клике 67.
Написанный коллективом крупнейших специалистов под руководством товарища Вальтера
Ульбрихта, этот обобщающий труд представляет собой итог большой творческой
работы, дважды рассматривавшейся на пленумах ЦК СЕПГ и основанной на богатейшем
материале архивов и печатных источников. В четвертом томе многотомника
обстоятельно проанализированы предпосылки перехода господствующих классов к
фашизации страны, глубоко охарактеризованы цели, которые они преследовали при
этом, раскрыты причины, позволившие гитлеризму стать грозной опасностью, а затем
овладеть властью.
-------------------------------------
63 L.
Berthold. Das Programm der KPD zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen
Volkes. Berlin, 1956.
64 W. Schwartzke. Der Kampf der KPD zur
Mobilisierung der Arbeiterklasse gegen den Faschismus. September 1930—Januar
1933.— «Wissenschaftliche Zeitschrift der Universitat Halle-Wittenberg»,
1956/57; W. Bleyer. Zur Bedeutung
der Massenkampfe im Herbst 1932 fur den Sturz der Papen-Regierung.- «Deutsche
Akademie fur Staats und Rechtswissenschaften. Wissenschaftl. Zeitschrift»,
1957, Sondenummer; И. Moritz. Der
Kampf der Kommunistischen Partei Deutschlands im Kreis Ruppin (1929—1933).
Neuruppin, [1962], и др.
65 E. Liening, W. Wimmer. Die ersten Wochen der Antifaschistischen
Aktion.— «Beitrage zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung», 1961, Sonderheft:
E. Kurklich, E. Liening. Die Antifaschistische Aktion.— «Beitrage zur Geschichte
der deutschen Arbeiterbewegung», 1962, N 4; H. Karl, E. Kucklich. Zum
Kampf der KPD fur die antifaschistische Einheitsfront im Bezirk
Berlin-Brandenburg im Fruhjahr 1932.— «Beitrage zur Geschichte der deutschen
Arbeiterbewegung», 1963, N 5-6 и др.
66 W. Imig. Streik bei Mansfeld 1930. Berlin, 1958.
67 «Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung», Bd. 4. Berlin,
1966.
31
![]()
Среди них едва ли не определяющей, как
показано в «Истории германского рабочего движения», является раскол
пролетариата по вине руководства социал-демократической партии. Чрезвычайный
интерес представляет данный здесь анализ многообразной деятельности КПГ — и ее
исторических заслуг перед немецкими трудящимися, и допущенных ею ошибок и
недостатков. Часть тома отведена документам; некоторые из них почерпнуты из
архивов или перепечатаны из труднодоступных изданий.
Ряд опубликованных в ГДР
работ посвящен различным аспектам политики господствующих классов, итогом
которой было установление фашистской диктатуры. Большой интерес привлекла
статья Ф. Клейна о роли крупной германской буржуазии в подготовке этого события68.
Опираясь на архив бывшего главного редактора правобуржуазной газеты «Дейче
альгемайне цейтунг» и на другие важные источники, автор осветил основные этапы
фашизации страны в 1929—1932 гг.
Серьезным исследованием
одного из центральных эпизодов этого процесса — реакционного переворота
Чрезвычайно важную и, как мы
увидим, с особенным упорством фальсифицируемую буржуазными историками тему
избрал для своей монографии Б. Бухта70. Он обстоятельно рассмотрел
вопрос о «Восточной помощи» и показал ее место в политике поддержки правящими
кругами наиболее реакционных общественных сил, в агрессивных замыслах
германского империализма. К. Шютцле проследил в своей книге роль германской
военщины и показал, что она была одной из решающих сил фашизации Германии71.
Эта работа служит достойной отповедью все новым попыткам буржуазной
историографии обелить германских милитаристов, о чем будет сказано ниже.
Большое внимание событиям 20-х —начала 30-х годов уделяет в ряде статей и в
обзорной работе по истории Веймарской республики В. Руге, частично опирающийся
на архивные документы 72.
Нам удалось познакомиться и с
некоторыми неопубликованными трудами историков ГДР. Один из них — диссертация
----------
69 J. Petzold. Der Staatsstreich vom
20. Juli
70 B. Buchta. Die Junker und die Weimarer Republik.
Charakter und Bedeutung der Osthilfe in den Jahren 1928—1933. Berlin, 1958.
71 K. Schutzle. Reichswehr wider die Nation. Berlin, 1963.
72 W. Rage. Deutschland von 1917 bis 1933. Berlin,
1967.
32
К. Госвайлера об участии
монополистического капитала в подготовке расправы над Ремом и его ставленниками
30 июня
Эти краткие сведения,
естественно, не исчерпывают собой всего, что сделала историческая наука ГДР в
изучении интересующей нас темы — одной из ключевых для понимания путей развития
Германии в новейшее время. Можно назвать также работы К. Дробиша, Г. Радандта,
Г. Хабеданка, Ф. Генцена и др.
За последние несколько лет в
ГДР вышли из печати две книги о беззаветном борце против реакции и войны К.
Осецком75; обостренное внимание к этому человеку вполне оправданно,
ибо невозможно представить себе политическую борьбу тех лет без журнала
«Вельтбюне» и его редактора, неутомимо звавшего к отпору фашизму, к единству
всех, кто не хотел превращения Германии в очаг войны.
Из марксистских работ,
вышедших за пределами Германии {о советских исследованиях мы скажем несколько
ниже), следует отметить книгу французского историка Ж. Бадиа76. Она
содержит популярный очерк событий конца 20-х — начала 30-х годов, в котором
правильно освещены основные вопросы темы.
В советской исторической
литературе крупных монографических исследований по рассматриваемой теме нет.
Имеются работы по отдельным частным ее аспектам или разделы в трудах на более
общие темы. Такова, например, обширная глава о предыстории гитлеровской
диктатуры в книге Г. Л. Розанова о предвоенном этапе нацистского
господства в Германии77. Автор использовал весьма ценные источники,
в том числе почерпнутые из западногерманских архивов, и с их помощью проследил
консолидацию сил реакции вокруг гитлеровской партии, борьбу
-------------------------
73 К. Gossweiler. Die Rolle des Monopolkapitals bei der Herbeifuhrung
der Rohm-Affare. Berlin, 1963.
74 W. Wimtner. Der Staatsstreich vom 20. Juli 1932 gegen
die preussische Regierung Braun-Severing und seine Vorgeschiche. Berlin, 1962.
75 R.
und R. Greuner. Ich stehe links. Carl von Ossietzky uber Geist und Ungeist
der Weimarer Republik. Berlin, 1963; B. Frei. Carl von Ossietsky —
Ritter ohne Furcht und Tadel. Berlin — Weimar, 1966.
76 G. Badia. La fin de la republique allemande.
1929-1933. Paris, 1953.
77 Г. Л. Розанов, Германия под властью фашизма (1933—1939
гг.). М., 1961.
33
германских антифашистов во главе с
коммунистической партией и основные причины установления фашистской диктатуры.
Глубокий
историко-социологический анализ событий 1929-— 1933 гг. в Германии дан в
монографии А. А. Галкина о германском фашизме78. Здесь интересующая
нас тема рассмотрена последовательно в различных ее аспектах, касающихся
взаимоотношений гитлеровской партии с монополиями, с рабочим классом, роли
германской военщины в возвышении нацизма, места фашистской идеологии в этом
процессе и др.
В книге А. С. Ерусалимского
«Германский империализм: история и современность»79 сравнительно
мало прямых обращений к изучаемому в данной работе предмету, но эта книга
содержит ценнейшие наблюдения и выводы о политике правящих кругов Германии в
новейшее время, помогающие в исследовании тех или иных конкретных сюжетов.
В известной работе Л.
Безыменского80, основанной на оригинальных материалах, рассмотрен,
хотя и бегло, довольно существенный элемент сговора власть имущих с
гитлеровцами — деятельность германских милитаристов, в своем стремлении к
реваншу сделавших ставку на нацистов.
Внешнеполитическая канва
событий 1929—1933 гг. хорошо обрисована в работе В. Б, Ушакова 81.
Ему принадлежит также один из критических обзоров буржуазной литературы по
рассматриваемой нами теме. Первый из этих обзоров, написанный А. Корсунским,
был опубликован в
Статьи по отдельным аспектам
темы в основном посвящены массовой борьбе немецкого рабочего класса против
фашистской угрозы и движению трудящихся крестьян83. Работы эти
являют-
---------------
78 А. А. Галкин. Германский фашизм. М., 1967.
79 А. С. Ерусалимский. Германский империализм: история и
современность. М„ 1964.
81 В. Б. Ушаков. Внешняя политика
Германии в период Веймарской республики. М., 1958.
82 И. Я. Биск. Причины гибели
Веймарской республики и прихода к власти гитлеровцев в немецкой мемуарной
литературе.— «Труды Сталинского пед. ин-та», 1960, т. 3.
83 Н. И. Кудрявцева. К вопросу об
образовании в Германии единого рабочего антифашистского фронта.—«Известия
Воронежского пед. ин-та», т. XIX (1955); А. Д. Галкина. Забастовочная
борьба сельскохозяйственных
34
ся определенным вкладом в историографию
вопроса, хотя Источниковедческая их база ограничена печатными источниками. Иную
тему освещает в интересной статье Б. Г. Тартаковский, исследующий деятельность
проводников фашизации страны — буржуазных политических организаций и
убедительно вскрывающий мотивы и последствия их самоубийственной политики 84. Ряд работ
принадлежит автору данной книги.
* * *
Остановимся подробнее на
современной буржуазной литературе по нашей теме. Количественно она весьма
многочисленна. Приход гитлеровцев к власти явился событием, оказавшим серьезное
влияние на судьбы народов мира, проложившим путь ко второй мировой войне. Вот
почему подлинные виновники того, что Германия превратилась в оплот самой
оголтелой разновидности фашизма,— германские монополисты, юнкеры, генералы —
предпринимают настойчивые попытки снять с себя клеймо ответственности перед
немецким народом и другими народами мира за это преступление. Отсюда
непрекращающийся поток литературы о событиях начала 30-х годов, выходящей в
Западной Германии; исследования на эту тему издаются также в Англии и США.
Работы 50-х, а особенно 60-х
годов существенно отличаются от прежних тем, что в их основе, как правило,
лежат архивные источники, ранее не доступные исследователям. Новые материалы
дают значительно более конкретное представление о перипетиях передачи власти
гитлеровцам, подчас позволяют заглянуть в тайники, где вынашивались
антинародные планы реакционного переворота. Назовем для примера монографию
Брахера, Зауэра и Шульца о взятии власти нацистами "(объем свыше 1000
страниц) 85 или работу Э. Бека о перевороте 20 июля
-------------------------------
рабочих в 1928—1932 гг. и тактика КПП—
«Научные доклады высшей школы. Исторические науки», 1958, № 2; А. С. Бланк. Борьба
КПГ против фашистской опасности (1929—1932).— «Уч. зап. Череповецкого пед.
ин-та», 1962, № 3; он же. Коммунистическая партия Германии в борьбе
против фашистской диктатуры. М, 1964, гл. 1, и др.
84 Б. Г. Тартаковский. Буржуазные
партии Веймарской республики и приход фашизма к власти.—«Из истории Германии
нового и новейшего времени». М., 1958.
85 К. D. Bracher, W. Sauer, G. Schulz. Die
nationalsozialistische Machtergreifung. Koln — Opladen, I960.
86 E. Beck. The Death of the Prussian
Republic. Tallahassee, 1959.
35
тии 87, в объемистом сборнике о заключительном
периоде существования политических партий перед их роспуском в
Все это, конечно, работы, мимо
которых не может пройти и исследователь-марксист. Но внимательное изучение их
обнаруживает, что богатейшие источники нередко используются буржуазными
историками не для выяснения исторической истины, а для ее затушевывания;
отдельные же признания касаются лишь того, что уж слишком очевидно. Попытаемся
показать это на примере постановки теми или иными авторами узловых проблем.
В своем анализе мы можем
опереться и на ряд критических статей, посвященных зарубежной (преимущественно
западногерманской) литературе о приходе нацистов к власти89. Как
правило, речь будет идти не о трудах на общие темы (по новейшей истории
Германии или по истории Веймарского периода), а о специальных работах.
О некоторых установках
буржуазной историографии по изучаемой нами теме можно судить по выступлению
одного из наиболее плодовитых западногерманских историков, В. Конце, на
коллоквиуме, состоявшемся в дни Стокгольмского конгресса историков в
----------------------------------------
87 Th. Vogelsang. Reichswehr, Staat und NSDAP. Stuttgart, 1962.
88 «Das
Ende der Parteien 1933». Dusseldorf, 1960.
89 В.
Б. Ушаков. Крах Веймарской республики и установление фашистской диктатуры в
Германии а изображении западногерманской буржуазной историографии.—«Новая и
новейшая история», 1958; № 2; В, С. Дякин. Западногерманские буржуазные
историки о падении Веймарской республики.— «Критика новейшей буржуазной
историографии». М. — Л., 1961; он же. «Век масс» и ответственность классов (Вопрос
о классовой сущности фашизма в западногерманской историографии).—«Критика новейшей
буржуазной историографии». Л., 1967; Л. И. Гинцберг, О предыстории
установления гитлеровской диктатуры,—«Вопросы истории», 1966, №4; В. Д.
Кульбакин. Буржуазные и реформистские историки ФРГ о крахе Веймарской
республики и установлении фашистской диктатуры.— «Новая и новейшая история»,
1968; № 2; К. Haferkorn. Das Ende der Weimarer Rеpublik in der
westdeutschen Geschichtsschreibung.— «Beitrage zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung»,
1965. N 6; idem. Die burgerliche westdeutsche Historiographie uber das
Ende der Weimarer Republik.— «Zeitschrift fur Geschichtwissenschaft», 1970, N
8.
90 «Zeitschrift
fur Gesehichtwissenscnaft», 1961, N 1, S. 135.
36
ламентаризма в Германии», о том, что
парламентская система якобы была «более непригодна» и т. п.91.
Но это не исчерпывает собой
положений, имеющих хождение в буржуазной историографии. Прежде всего, они
касаются главного вопроса о сущности гитлеризма, от решения которого зависят
все остальные. Посмотрим, как подходит к этому вопросу один из крупнейших
современных историков ФРГ, перу, которого принадлежат наиболее значительные
труды на интересующую нас тему, К. Д. Брахер. Выпустив в
Но Брахеру чужд подлинно
научный подход к вопросу о классовом содержании фашизма, о том, чьи интересы он
представлял и кому было выгодно его усиление, а затем — приход к власти. Уже в
своей первой монографии Брахер ополчился на историков-марксистов за их «наивные
попытки» создать «трактовку фашизма, согласно которой Гитлер был целиком
продуктом властолюбивых стремлений тяжелой промышленности» 94. В
первых изданиях он даже оспаривал факт получения Гинденбургом послания магнатов
капитала в ноябре
Упорство, с которым
представители буржуазной науки оспаривают тот факт, что главным опекуном
нацистов был крупный капитал, свидетельствует, что они усматривают в призна-
-----------------------
91 «Historische Zeitschrift», Bd. 178, N 1; Bd. 199, N 3.
92 Обобщением всех этих исследований является последняя по
времени книга: К. О. Bracher. Die deutsche Diktatur. Koln, 1969.
93 К. Haferkorn. Das Ende der Weimarer Republik in der
westdeutschen Geschichtsschreibung, S. 1069.
94 K. D. Bracher. Die Auflosung der Weimarer Repubiik.
Stuttgart—Dusseldorf, 1955, S. 334—335.
37
нии этой точки зрения величайшую
опасность. Тактика «респектабельных» буржуазных историков при этом несколько
видоизменилась. Если американский апологет монополий Лохнер, чьи книга вышла в
начале 50-х годов, пытался начисто отрицать какую-либо ответственность
германских промышленников и банкиров за возвышение нацизма и передачу ему
власти 96, то в наши дни буржуазные авторы, признавая, что между
нацистской партией и крупной промышленностью, банками существовала связь,
стремятся всячески преуменьшить, ограничить ее, уверить читателей, что
поддержка гитлеровцев отнюдь не была связана с планами устранения буржуазной
демократии 97. Американский публицист У. Ширер, которого никак
нельзя заподозрить в симпатиях к гитлеровцам, сразу становится необычайно
снисходительным, когда заходит речь об их покровителях; тех же монополистов,
чье участие в поддержке нацистов па пути к власти отрицать нельзя, он
называет... «детьми в политическом отношении» 98.
Мало кто поверит, конечно, в
«детскую наивность» таких матерых зубров монополистического капитала, как
Тиссен, Кирдорф и им подобные. Однако буржуазные историки не прекращают своих
ухищрений. Это вновь проявилось на коллоквиуме историков ГДР и ФРГ,
состоявшемся в декабре
Более или менее солидные
буржуазные ученые, конечно, понимают, что нельзя писать о таком событии, как
установление гитлеровской диктатуры, не характеризуя его причин. Правда, в
буржуазной историографии есть и течение, склонное рассматривать все как
результат простых случайностей. К числу его «основоположников» можно причислить
старейшину западногер-
----------
96 L. Lochner. Tycons and Tyrant. Chicago, 1954.
97 G. Braunthal. The Federation of German Industry in
Politics. Ithaca, 1955, p. 17; E. Nolle. Der Faschismus In seiner
Epoche. Munchen, 1963, S. 600 ff.; И. A. Turner. Big Business and the
Rise of Hitler.— «American Historical Review», October 1969.
98 W.
Shirer. The Rise and Fall of the Third Reich. London, 1960, p. 145. Почти в
тех же выражениях пишет о германских крупных промышленниках В. Лакёр, редактор
издающегося в Лондоне антикоммунистического журнала «Survey»; по его словам,
эти капитаны индустрии были «ограниченными и близорукими людьми... потерявшими
в ходе экономического кризиса веру в себя и желавшими лишь одного — чтобы их
оставили в покое» (W. Laquer. Der Nazismus und die Nazis.— «Aus Politik
und Zeitgeschichte», 1964, N24, S. 27).
99 «Geschichte in Wessenschaft und Unterricht,
1966, N 8. Тройе утверждал, например, будто Флик в конце
38
манских буржуазных историков Ф. Майнеке,
который высказал эту точку зрения в своей книге «Германская катастрофа» —
первом более или менее крупном отклике на разгром фашизма. Говоря о том, что,
наряду с общими причинами победы нацизма, были и случайности, он добавлял: «И,
может быть, как раз в решающем пункте — при подъеме к власти в государстве в
1930—1933 гг.» 100. Другой пример подобного рода — книга
историка и журналиста Э. Штерн-Рубарта, который утверждает, что падение
Веймарской республики было лишь следствием цепи случайностей 101.
Такое «объяснение» может
удовлетворить далеко не всех. В своем труде, написанном вместе с Зауэром и
Шульцем, Брахер стремится раскрыть предпосылки и причины победы немецкого
фашизма «теоретически». Несостоятельность этих попыток определяется уже тем,
что Брахер исходит из признания установления фашистской диктатуры «революцией»,
всерьез говорит о «революционной ситуации», якобы существовавшей тогда в
Германии, т. е. повторяет то, что твердили сами гитлеровцы, маскируя закулисный
заговор против парода. Главные причины установления гитлеровского режима, по
мнению Брахера, лежали в области идеологии (национализм и антипарламентаризм),
психологии и — на последнем месте — экономики.
Каковы же были собственно
экономические причины? Они сводились, если верить Брахеру, к «панике среднего
сословия» 102. О гитлеризме как мелкобуржуазном по своей социальной
природе явлении говорится и в других местах книги. Это избитое, убедительно
опровергнутое марксистской наукой объяснение — все, что Брахер и его соавторы
сумели противопоставить марксизму по главному вопросу о движущих силах фашизма.
Мелкая буржуазия, действительно, была социальной базой последнего, но она никогда
не была и не могла быть силой, направлявшей его.
Коренным пороком буржуазных
исследований было и остается сосредоточение внимания авторов на роли и
действиях тех или иных личностей, на различных верхушечных комбинациях. В этих
работах изложение заполнено высказываниями, диалогами, перепиской весьма узкого
круга лиц — «вершителей судеб» страны; все остальное, включая важнейшие события
массового движения народных низов, существует в лучшем случае как фон, а иногда
даже не упоминается. В объемистой книге Фогельзанга нет и речи о подъеме
массового забастовочного движения в Германии осенью
---------------------
100 F. Meinecke. Die deutsche Katastrophe. Wiesbaden, 1946,
S. 92.
101 E. Stern-Rubarth. ...aus zuverlassiger Quelie verlantet. Stuttgart,
1964. S. 251.
102 K.
D. Bracher, W. Sauer, G. Schulz, Die nationalsozialistische Machiergreifung,
S. 22.
39
полном игнорировании исторической
обстановки. Еще более разительный образчик того же — одна из статей Т. Эшенбурга, специально
посвященная роли личности в период кризиса Веймарской республики. Лейтмотив
этой примечательной работы — уверения в необходимости уделить субъективному
фактору большее внимание, чем до сих пор (!). Б соответствии с этой посылкой
Эшенбург все события начала 30-х годов рассматривает под углом зрения
взаимоотношений Гинденбурга, Брюнинга, Грёнера и Шлейхера; важную причину того,
почему события приняли определенный ход, он видит... в «неудачной» женитьбе
Грёнера и преждевременном рождении ребенка в этом браке 103. Здесь,
как говорят, комментарии излишни.
Самой распространенной
разновидностью идеалистического подхода к важнейшим событиям новейшей истории
Германии является объяснение тех или иных успехов гитлеризма (равно, как и его
поражений) целиком влиянием «демонической» личности Гитлера. Подобное
объяснение избавляет от необходимости искать глубинные истоки общественных
явлений, позволяет затушевывать подлинные причины возвышения нацизма в конце
20-х—начале 30-х годов, коренящиеся в замыслах и политике господствующих
классов. Отсюда обилие работ, в которых история страны персонифицируется в
образе одного человека — Гитлера 104. И даже если «фюрер»
подвергается здесь осуждению, данный методологический принцип остается глубоко ложным.
Было бы, однако, неточно утверждать,
что народные массы вовсе не упоминаются в трудах буржуазных историков. Пущенный
в оборот, как мы видели, сразу после передачи власти фашистам тезис, будто в
этом событии «виноваты массы», голосовавшие за гитлеровцев, вновь и вновь
всплывает в работах буржуазных авторов 105. С течением времени в
трактовке этого тезиса произошли модификации; так, в первые послевоенные годы
он обосновывался, прежде всего, национальными особенностями немцев (это
утверждали не только многие историки Англии и США, но и Западной Германии 1O6),
ныне его выводят из неких особенностей развития массовых движений в современную
эпоху. Но дело от этого не меняется, ибо цель остается
-----------------------------------
103 Th.
Eschenburg. Die Rolle der Personlichkeit in der Krise der Weimarer
Republik. Hindenburg, Bruning, Groener, Schleicher.— «Vierteljahrshefte fur
Zeitgeschichte», 1961, N I, S. 14.
104 W.
Gorlitz, H. Quint. Adolf Hitler. Eine Biographie. Stuttgart, 1952; A.
Bullock. Hitler. A Study in Tyranny. London, 1963; H. Gisevius. Adolf
Hitler. Versuch einer Deutung, Munchen, 1963, и др.
105 См.,
например, F. Friedensburg. Die Weimarer Repubiik. Hannover, 1957; A.
Brecht. Mit der Kraft des Geistes. Lebenserrinnerungen. Zweite Halfte
Stuttgart, 1967, S. 127.
106 W.
Ropke. Die deutsche Frage. Stutlgart, 1948.
40
прежней — выгородить тех, кто насаждал в
массах нацистскую идеологию.
Вариант того же тезиса мы
находим в исследовании о политике буржуазных партий по отношению к нацистам в
Брауншвейге. Э. Ролоф пишет: «Не политические вожди буржуазии выдали членов
своих организаций и своих избирателей национал-социалистам, а сами буржуазные
массы (здесь, несомненно, имеются в виду члены и избиратели «старых»
политических партий.— Л. Г.) покинули свое руководство и тем самым
толкнули его к нацистам» 107. Данный прием так же несостоятелен, как
перечисленные выше; нацисты сумели отвоевать массы у других партий буржуазии не
в последнюю очередь потому, что тс зачастую стремились уподобиться фашистам и
сблизиться с ними, по, конечно, не могли сравняться с нацистами в
разнузданности демагогии и «новомодных» средствах завоевания последователей.
Уловок подобного рода в
трудах буржуазных ученых немало. Таковы, например, уверения в том, будто
готовность правящих кругов допустить гитлеровцев к власти объяснялась тем, что,
мол, нельзя было предугадать их действий, их методов (о целях в таких случаях
стыдливо умалчивают) 1O8. К. Зонтгеймер, выдвинувшийся в последние
годы в число ведущих исследователей рассматриваемого периода, утверждает: «В
Германии на деле лишь немногие имели хотя бы приблизительное представление
о том, что произойдет после взятия власти Гитлером». А далее он задает
риторический вопрос: «И как можно было это предвидеть?» 109 Эта
«наивность» выглядит весьма странно. Как будто недостаточно было доказательств
решимости гитлеровской партии навсегда покончить с остатками демократических
свобод. И разве мало было откровенных заявлений нацистских главарей о том, что
после захвата власти «головы покатятся в песок», и «боксгеймских документов», и
непрекращавшегося террора коричневорубашечников. Особенно же хорошо были
осведомлены о замыслах гитлеровцев их будущие партнеры из «старых» буржуазных
партий. Об этом вновь пишет Э. Калик, комментируя опубликованные им записи
бесед Гитлера с Брейтингом: «Они действовали не в неведении того, что им
предстоит. Они были информированы исчерпывающе и из первоисточника»110.
-----------------------------
107 E. A. Roloff. Burgertum und Nationalsozialismus
1930—1933. Braunschweigs Weg ins Dritte Reich. Hannover, 1961, S. 108.
108 G. Rossbach. Mein Weg durch die Zeit. Weilburg-Lahn,
1950, S. 114.
109 K. Sontheimer. Das antidemokratische Denken in der
Weimarer Republik. Munchen, 1962, S. 386.
110 E. Calic. Ohne Maske, S. 126.
41
Один из ходячих тезисов
буржуазной историографии, когда речь идет о предыстории установления фашистской
диктатуры, заключается в том, будто рейхстаг был неработоспособен, что и
«заставило» установить диктатуру. На этом тезисе основана и концепция Брахера о
«вакууме власти», якобы возникшем после отставки Брюнинга. Бывший
статс-секретарь рейхсканцелярии Пюндер, отмечая в одной из своих работ, что с
В этой связи следует сказать
несколько слов о весьма распространенной в буржуазной литературе апологетике
Брюнинга и проводившейся им политики. Автор одного из славословий, помещенных в
сборнике по поводу 75-летия Брюнинга, выразил это так: «Брюнинг принадлежал к
тем личностям, которые благодаря своему политическому инстинкту разглядели
смертельную угрозу надвигающейся гитлеровской диктатуры и боролись против нее» 113.
А министр правительства Эрхарда Кроне заявил в печати, что «Брюнинг во время
своего канцлерства всеми силами, не щадя себя, стремился отвести от Германии
нацистскую угрозу» 114. Даже Ширер, который отмечает, что Брюнинг
вырыл могилу для немецкой демократии и тем самым «проложил путь для прихода
Гитлера», считает, будто Брюнинг сделал это «неумышленно», и называет бывшего
рейхсканцлера чрезвычайных декретов и статьи 48 «демократически настроенным
патриотом» 115. Последним по времени свидетельством попыток сделать
из Брюнинга «убежденного демократа» был объемистый сборник, изданный в
-----------------------
111 Н. Punder. Der Reichsprasident in der Weimarer Republik.
Frankfurt a/M.— Bonn, 1961, S. 24.
112 H. Punder. Politik in der Reichskanzlei. Aufzeichnungen
aus den Jahren 1929—1932, S. 94.
113 «Heinrich Bruning.
114 «Politische Meinung», 1965, N 110, S. 19
115 W. Shirer. The Rise and Fall of the Third Reich, p.
151.
116 «Staat, Wirlschaft und Politik in der Weimarer Repubiik. Festschrift
fur Heinrich Bruning». (West) Berlin, 1967.
117 H. Bruning. Memoiren 1918—1934.
Stuttgart, 1970.
42
И они-то положили конец «легенде о Брюнинге»
даже среди подавляющего большинства буржуазных историков.
С появлением этих мемуаров
стало ясно, почему Брюнинг не
издал их при жизни: слишком велика была степень саморазоблачения, которую
допустил здесь автор. Книга приобрела сенсационную известность, и не только в
кругах специалистов, о чем свидетельствовали многочисленные отклики
западногерманских и западноберлинских печати и радио. Несмотря на некоторые
оттенки во мнениях, все рецензенты совершенно единодушны в одном — для того
искажения истории, которое было связано с именем Брюнинга и которое с каждым
годом становилось все интенсивнее, мемуары бывшего рейхсканцлера являются, по
выражению автора одного из отзывов, поистине смертельным ударом 118.
И действительно, книга
Брюнинга содержит ценнейшие признания, касающиеся ключевых вопросов политики
правящих кругов Германии в конце 20-х — начале 30-х годов, признания,
документально подтверждающие те выводы о реакционной политике правительства
Брюнинга, к которым уже ранее пришла марксистская историография.
Документальность эта особенно важна, ибо речь идет преимущественно о такого
рода беседах, указаниях, планах Брюнинга, которые относились к категории
сверхсекретных и, как правило, не фиксировались письменно. Таковы, например,
планы восстановления монархии, носившие вполне конкретный характер; сведения о
конфиденциальных встречах с Гитлером, не оставляющие никаких сомнений в
готовности Брюнинга вручить власть фашистскому главарю сразу же по достижении
тех успехов в области внешней политики, которых Брюнинг рассчитывал добиться
быстрее, чем это бы мог сделать Гитлер; откровенные признания Брюнинга насчет
подлинных целей его политики в области вооружений и их маскировки, насчет
своего участия в свержении правительства Мюллера, насчет того, каким
колоссальным бременем ложились на государственный бюджет в годы экономического
кризиса субсидии обанкротившимся крупным остэльбским помещикам (в порядке
«Восточной помощи»), а также реакционным магнатам крупной промышленности и банкирам.
Отмечая, что воспоминания
Брюнинга ставят под вопрос чуть ли не все представления, взгляды, оценки и
мнения о конце Веймарской республики, Э. Дойерлайн приходит к выводу, что
историю этого периода следует писать заново 119 В применении к
буржуазной историографии, в искаженном свете интерпретировавшей политику
кабинета Брюнинга, такой вывод, безусловно, справедлив. Что же касается
марксистской литературы,
----------------------
118 «Die Welt am Sonntag», 15.XI 1970.
119 «Publik (Frankfurt a/M.), 13.XI 1970.
43
го выход указанных мемуаров никак не может
повлиять на оценки Брюнинга и его реакционного курса, сложившиеся в результате
изучения многочисленных достоверных материалов. Тем не менее, и для
исследователя-марксиста книга Брюнинга представляет большой интерес.
Такие же усилия, как в
отношении Брюнинга — ведь речь, естественно, шла не о нем лично, а о
руководстве католической партии Центра,— делаются, чтобы обелить одну из
главных общественных сил, содействовавших приходу Гитлера к власти,— реакционную
военщину 120.
Работы 60-х годов и в этом
отношении не буквально повторяют прежние исследования; после ряда трудов
марксистских авторов, а также некоторых буржуазных ученых 121,
раскрывших зловещую роль германского генералитета в возвышении нацистской
партии и установлении ее господства, попросту отрицать эту роль нельзя. Поэтому
в книге Брахера, Зауэра и Шульца, в специальном исследовании Фогельзанга на эту
тему приводятся факты о том, что видные представители военщины помогали
гитлеровцам еще до их прихода к власти, что командование рейхсвера оказывало
влияние на политическое развитие Германии в направлении к «авторитарному»
режиму, а затем к фашистской диктатуре. Но авторы указанных книг не делают из
этого верных выводов; наоборот, они всячески стремятся хотя бы отчасти
реабилитировать генералитет.
Так, В. Зауэр пытается свести
поддержку Гитлера военщиной, ее участие в установлении фашистской диктатуры к
активности отдельных лиц, в частности Бломберга и Райхенау. Еще более далек от
истины вывод, к которому приходит в результате своего исследования, содержащего
немало интересного материала, Фогельзанг: генерал Шлейхер якобы «являлся на
арене политической борьбы единственным опасным серьезным противником нацистов» 122.
Это полностью противоречит всему, что известно о деятельности Шлейхера, одного
из главных проводников соглашения с гитлеровцами.
В трудах буржуазных авторов
неизменно много внимания уделяется обстоятельствам передачи власти Гитлеру.
Немало искажений допускается и здесь, а цель их — все та же: доказать, будто
этот акт был не завершением продуманного плана,
-------------------
120 W. Gorlitz. Der deutsche Generalstab. Frankfurt a/M.,
1950; W. Erfurt. Die Geschichte des deutschen Generalstabs von 1918 bis
1945. Gottingen, 1957; H. Foertsch. Schuld und Verhangnis. Stuttgart,
1951.
121 Здесь следует назвать монографию английского ученого
Уилер-Беннета о политической роли германской военщины, вызвавшую озлобленные
отклики апологетов милитаризма, в том числе Г. Риттера (I. Wheeler-Bennett. The
Nemesis of Power. The German Army in Politics 1918—1945. New York, 1954).
122 Th. Vogelsang. Reichswehr, Staat und NSDAP, S. 401.
44
осуществление которого затянулось по
независящим от его авторов причинам, а чуть ли не импровизацией (так и
озаглавлен соответствующий раздел книги Фогельзанга), своего рода случайностью.
Если верить Фогельзангу, Гинденбург «до последней минуты» сопротивлялся
назначению Гитлера, а партия националистов, «Стальной шлем» и другие
группировки, формировавшие с гитлеровцами правительственную коалицию, делали в
.то же время попытки создать правительство без участия нацистов, якобы стремясь
не допустить Гитлера к власти.
Нечто подобное утверждает
американский историк Бек, автор полезного в целом исследования о политике
Папена и Шлейхера по отношению к Пруссии123. Л его соотечественник
А. Дорпален, написавший объемистую книгу о Гиндеибурге как президенте, в
которой основное внимание уделено концу Веймарской республики, изображает
престарелого реакционера чуть ли не убежденным противником нацизма 124.
Бесконечно далеки от истины подобные версии, цель которых — реабилитировать
Гинденбурга и его единомышленников, совершивших тягчайшее преступление перед
немецким и другими народами 125.
Неприемлемость применяемой по
всех этих исследованиях методологии ясна и некоторым буржуазным историкам. Один
из них — гамбургский профессор Ф. Фишер, автор нашумевшей книги о
захватнических целях Германии в первой мировой войне. Выступая на международном
конгрессе по современной истории в Мюнхене, он подверг откровения Эшенбурга
резкой критике: «Можно ли вообще касаться ситуации осени
Буржуазная историческая
наука, хотя и искажает причины передачи власти фашистам и затушевывает
классовые силы, выдвинувшие Гитлера, все же в целом исходит из того, что
нацистская партия проложила себе путь при помощи преступлений и самой
беззастенчивой демагогии, одним из главных козырей которой был жупел «угрозы
коммунизма». В наши дни подобная точка зрения уже вызывает недовольство
откровенных апологетов гитлеризма.
---------------------------
123 Е. Beck. The Death of the Prussian Republic, p.
162.
124 A. Dorpalen. Hindenburg and the Weimar Republic.
Princeton, 1964.
125 Это хорошо показано в работе западногерманского историка Ф.
Лукаса (F. J. Lukas. Hindenburg als Reichsprasident. Bonn, 1959).
126 «Stationen der deutschen Geschichte. Internationaler
Kongress fur Zeitgeschichte, Munchen». Stuttgart, 1962, S. 163.
45
Таков, например, Г. Беннеке,
в прошлом командир штурмовиков, а ныне историограф нацизма. Он без обиняков
заявляет, что не разделяет «господствующего в литературе мнения, что во всем виноваты
Гитлер и его партия» 127. Беннеке подвергает резкой критике
«респектабельных» буржуазных ученых, занимавшихся исследованием событий кануна
гитлеровского режима,— Брахера, Маттиаса и других — за «несправедливость» по
отношению к нацистам. Беннеке полагает, что в современных условиях выгоднее вернуться
к старой фашистской версии «коммунистического заговора». Бывший штурмовик
утверждает, будто установление фашистской диктатуры было неизбежно; более того,
заявляет он, надо было предоставить Гитлеру власть еще в
Налицо, таким образом, атака
на установившиеся в послевоенные годы положения буржуазной науки — атака,
справа, отражающая тенденцию развития буржуазной идеологии в ФРГ. Беннеке не
одинок. Такой же точки зрения придерживается и В. Хубач, опубликовавший
документы Гинденбурга, снабдив их обширным введением откровенно
апологетического характера 129. К тому же сорту фальсификаторов
относится и достаточно известный В. Герлиц, обрушившийся с грубой бранью на
автора статьи о реакционных махинациях крупных помещиков, составлявших
окружение Гинденбурга 130.
В
На примере Беннеке весьма
наглядно видно, что антикоммунизм очень близок открытой апологетике фашизма.
Между тем антикоммунизм — чуть ли не непременный компонент работ буржуазных
авторов, пишущих о предыстории установления гитлеровской диктатуры. Помимо
попыток свалить вину на коммунистов, делаемых, так сказать, мимоходом, есть и
специальные
----------------------------
127 Н. Bennecke. Alterinativen der Not: Schleicher,
Burgerkrieg oder Hitler.— «Politische Studien», N 150, 1963.
128 H. Bennecke. Hitler und die SA. Munchen — Wien, 1962,
S. 154—155.
129 W. Hubatsch. Hindenburg und der
Staat. Gottingen, 1966.
130 «Monat», N 147, Dezember 1960, S. 93—94.
131 O. Strasser. Der Faschismus. Geschichte und Gefahr. Munchen
— Wien. 1965, S. 50, 52.
46
фальсификации на эту тему, например
написанная 3. Бане глава о КПГ в сборнике «Конец партий в
Даже авторы, настроенные, безусловно,
антифашистски, не видят никакой альтернативы развитию Германии по пути
фашизации, полагая, что не оставалось ничего другого, как прибегать к § 48
конституции, так как в рейхстаге-де не имелось конструктивного большинства.
Буржуазные историки оперируют здесь привычными категориями, не допуская даже
мысли о возможности создания большинства из умеренно буржуазных,
социал-демократической и коммунистической партий — при условии, естественно,
чтобы все партнеры объявили непримиримую борьбу фашистской угрозе. Это и была
единственная возможная альтернатива фашизму.
Сказанное выше убедительно
свидетельствует, что использование работ буржуазных авторов требует сугубо
критического подхода не только к их концепции, по и к сообщаемым ими фактам. Из
нашего обзора видно также, сколь велика и научная, и политическая актуальность
глубокого марксистского исследования проблем предыстории гитлеровской
диктатуры.
-------------------------------------------
132 R. Kuhnl. Das Dritte Reich in der
Presse der Bundesrepublik. Kritik eines Geschichtsbildes. Frankfurt a/M., 1966.
47
НАЧАЛЬНЫЙ
ПЕРИОД МИРОВОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
КРИЗИСА.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ
ФАШИСТСКОЙ УГРОЗЫ
Кризис и планы господствующих классов
Мировой экономический кризис
1929—1933 гг., начало которого обычно датируют паникой на нью-йоркской бирже в
октябре
Первая половина
-----------
1 «Мировой экономический кризис». М., 1930,
стр. 109.
2 Там же, стр. 104.
3 «Мировой кризис 1929—1931». М—Л., 1931 стр
129.
48
Но ориентация на внешние
рынки не могла не усиливать подверженность германской экономики кризисам, ибо
малейшие колебания конъюнктуры тотчас же сказывались на ней. Подверженность
кризисам определялась и иными особенностями развития германского капитализма
после первой мировой войны. Общий кризис капиталистической системы,
развернувшийся в те годы, обострялся здесь результатами военного поражения,
лишившего империалистическую Германию колоний, и послевоенной инфляции,
сократившей до минимума германский вывоз капиталов. Максимально форсируя
экспорт промышленных изделий (который не подкреплялся, как это обычно бывает,
одновременным вывозом капитала), германские капиталисты постоянно стремились
снизить издержки производства, прежде всего заработную плату, тем самым,
уменьшая емкость внутреннего рынка.
Не последнюю роль в том, что
кризис с особой силой поразил Германию, играла ее финансовая зависимость от
иностранного, в первую очередь американского, капитала.
Все эти факторы не составляли
секрета для сколько-нибудь вдумчивого наблюдателя. За пять с небольшим лет (с
момента принятия «плана Дауэса» до начала экономического кризиса) было вполне
достаточно симптомов того, что развитие гарманской экономики протекает на
нездоровой основе. То были довольно характерные спады производства,
безработица, принявшая структурный характер и устойчивые, весьма высокие
размеры, и не в последнюю очередь хроническая недогрузка производственного
аппарата4. Тем не менее, и сами хозяева государства — монополисты, и
работавшие на потребу им буржуазные ученые не хотели видеть грозной опасности,
нависшей над страной, и буквально уже в преддверии экономического кризиса,
равного которому капиталистический мир еще не знал, были исполнены самых
радужных надежд.
Одним из наглядных примеров
этого ничем не оправданного, особенно для тех лиц, кто считал себя «капитанами»
народного хозяйства, оптимизма может послужить выступление тогдашнего
председателя штаба монополий — Имперского союза германской промышленности — и
главы крупнейшей химической монополии Германии «И. Г. Фарбениндустри» Дуисберга
на заседании Союза в сентябре
-----------------
4 Так, даже в относительно благоприятном
5 Центральный государственный архив
Октябрьской революции и социалистического строительства СССР (далее— ЦГАОР), ф.
4459, ед. хр. 416.
49
Немногим раньше, в конце
августа, в отчете Института конъюнктурных исследований, учреждения, призванного
изучать ход и перспективы экономического развития, говорилось, что характерной
чертой момента якобы является «пребывание почти всех стран в благоприятном
положении, па стадии подъема или высокой конъюнктуры, и отсутствие каких-либо
признаков, которые заставляли бы предполагать сколько-нибудь значительный спад,
а тем более кризис» 6.
А в это время в самой
Германии этот спад уже начался. Он шел с нарастающей силой, и к концу
Возьмем данные не по зимним
месяцам, когда сказываются сезонные колебания производства, связанные с такими
изменчивыми факторами, как погода, а цифры, относящиеся к летнему времени. В
июле
------------------------------
6 J. Kuczynski. Die Geschichte der
Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus, T. I, Bd. 15. Berlin, 1963, S. 92. И
позднее, в конце ноября
7 «Мировой экономический, кризис», стр. 105.
8 «Мировые экономические кризисы 1848—1935
гг.», т.
9 Там же, стр. 732—733.
50
Еще невиданными в те времена
темпами стала расти безработица. В марте
У власти в то время, как
известно, находился кабинет «большой коалиции», который возглавлялся лидером
социал-демократической партии Г. Мюллером и в котором представители СДПГ
занимали еще целый ряд ведущих позиций 13. Политика правительства
Мюллера соответствовала интересам крупных капиталистов, хотя имелись
определенные различия в конкретных целях отдельных группировок, его
составляющих, в первую очередь Народной партии, в то время являвшейся главной
политической организацией германских монополий, и социал-демократии, лидеры которой,
выражая в общем интересы господствующих классов, все же не могли в какой-то
степени не учитывать насущных потребностей рабочих.
Разногласия в правительстве
усиливались в течение всего
-------------------------
10 Там же, стр. 586—587.
11 «Internationale Rundschau der Arbeit», 1933, N 8, S. 703;
«Vingt ans d'histoire allemande (1914—1934)». Paris, 1935, p. 63—64.
12 «Vingt ans d'histoire allermande», p. 63—64.
13 См. В. Д, Кульбакин. Милитаризация Германии в
1928—1930 гг. М., 1954; И. Dress, M. Hompel, W. Imig. Zur Politik der
Hermann-Muller-Regierung 1928—1930.—«Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft»,
1962, N 8.
51
политических организаций буржуазии
безработных пытались представить людьми, не желающими работать, и в
подтверждение этого всячески раздувалось значение получаемого ими весьма
умеренного пособия.
Требования «покончить со
злоупотреблениями» в системе страхования по безработице были лишь маскировкой
далеко идущих целей монополий, добивавшихся если не полной ликвидации, то
резкого сокращения последнего. Так, «программа экономии», разработанная
Ганзейским союзом в начале
О том, что магнаты капитала
придают борьбе против страхования первостепенное значение, свидетельствовало
создание в недрах руководства «Объединения союзов работодателей» подотдела,
которому вменялось в обязанность собирать соответствующие материалы и
«целенаправленно и эффективно их использовать» 1б. В решении этой
задачи основная роль отводилась политическим представителям господствующих
классов — депутатам правобуржуазных партий в рейхстаге и ландтагах. Механика
взаимодействия хозяев (монополистов) и тех, кто находился у них на службе,
хорошо видна из опубликованного в начале 30-х годов документа — соглашения
некой предпринимательской организации (а их в Германии было немало) с депутатом
одного из ландтагов. В соглашении были весьма недвусмысленно определены функции
последнего: «Г-н К. обязуется в своей парламентской деятельности отстаивать
общие интересы промышленности, согласуй это с предпринимательской организацией,
в частности регулярно отчитываться обо всех событиях в парламенте, касающихся
промышленности» 17.
Как правило, такого рода
документы не становились достоянием гласности. Но действие их обнаруживалось
буквально на каждом шагу, чуть ли не на каждом заседании рейхстага или
ландтага, особенно же с наступлением мирового экономического кризиса, резко
обострившего классовые противоречия, а вместе
---------------------
14 Н. Timm. Die deutsche Sozialpolitik und der Bruch
der Grossen Koalition im Marz 1930. Dusseldorf, 1952, S. 121.
15 «Das Kabinett Muller
II», Bd. 2. Boppard-am-Rhein, 1970, S. 963.
l6 «Gewerkschaftszeitung», 1929, N 10, S. 145.
17 «Jahrbuch
des offentlichen Rechts der Gegenwart», Bd. 21, 1933/34. Tubingen 1934, S. 74.
52
с тем усилившего стремление крупного
капитала ликвидировать социальные завоевания трудящихся и с этой целью
установить в стране «сильную власть». Но если до декабря
Политика правительства
«большой коалиции» подвергалась здесь критике справа, при этом отмечалось, что
она якобы не предоставляет достаточного простора «созидающему» капиталу
(характерна терминология, совпадающая с гитлеровской). Союз германской
промышленности требовал отстранения государства от участия в решении вопросов
тарифов и зарплаты. Серьезное внимание уделялось требованиям относительно
социального страхования, и хотя слово «ликвидация» здесь не фигурировало,
содержавшиеся в программе предложения, в конечном счете, преследовали именно
эту цель. Наконец, воротилы бизнеса требовали значительного снижения налогов на
имущество и капитал, а для «равновесия в бюджете» — повышения налогов, падающих
на трудящиеся массы 18.
Через десять дней после
публикации этого документа состоялось чрезвычайное собрание Союза. Некоторые
выступления на собрании столь примечательны, что их следует привести. Так,
председатель Союза промышленников Саксонии Виттке заявил, что реализация
программы «потребует твердого и устойчивого правительства, серьезно желающего
действовать... Если парламент не способен выполнить свою задачу, справиться с
ней, то не останется ничего иного, как вновь, аналогично тому, что уже было в
1923/1924 г., обратиться к чрезвычайным декретам... Необходимо посредством этих
декретов создать положение, которого не может создать нам нормальное
законодательство». Виттке сказал в заключение, что, вероятно, единственный
способ выйти из тяжелого положения — закон о чрезвычайных полномочиях; это
мнение многих 19.
Не менее характерна речь
ополчившегося на профсоюзы Э. Шнааса, директора одного из крупных предприятий
германской столицы. Даже те союзы, руководители которых, как известно, вели
сугубо соглашательскую политику, были ненави-
---------
18 «Veroffentlichungen des Reichsverbandes der deutschen
Industrie», N 49, Dezember 1929, S. 5 ff. За этим в марте
19 «Veroffentlichungen des Reichsverbandes der deutschen
Industrie», N 50, Januar 1930, S. 33.
53
стны глашатаю монополий, мечтавших о
временах, когда они действительно были «хозяевами в собственном доме». Ссылаясь
на слова, будто бы произнесенные Эбертом, Шнаас заявил: «В Германии не будет
мира в экономике до тех пор, пока не будут высланы из страны 100 000
функционеров партии». Речь шла о социал-демократии, и слова оратора вызвали
крики одобрения и возглас: «Муссолини!» 20.
Муссолини был идеалом многих
из тех трех тысяч властителей денежного мешка, которых созвал Союз германской
промышленности. Их заветным желанием было повторить в Германии опыт
итальянского фашизма, но они прекрасно знали, что это задача чрезвычайной
сложности и риска. И подойти к ее решению можно лишь исподволь, постепенно, с
разных сторон. Одно из мероприятий тех реакционеров, которые уже тогда
склонялись к фашизму, заключалось в поощрении и выдвижении на авансцену
гитлеровской партии, о чем будет подробно сказано ниже. Другим аспектом было
непосредственное давление на круги, стоящие у власти, и орудием этого явился меморандум
от 2 декабря
Но монополистический капитал
был не единственной силой-заинтересованной в «сильной власти». К этому
стремилась и военщина, крайне недовольная уничтожением военной мощи Германии и
мечтавшая о реванше. Милитаристы все еще претендовали на роль, которую в годы
первой мировой войны играл генерал Людендорф. Об этом свидетельствуют,
например, слова представителя высших офицеров рейхсвера, позднее — его
командующего, генерала Гаммерштейна, относящиеся к
Генерал имел в виду статью
Веймарской конституции, которая предоставляла президенту право в случае
«нарушения общественной безопасности» издавать чрезвычайные декреты, имевшие
силу закона. В период резкого обострения экономического и политического
положения, последовавший за франко-бельгийской оккупацией Рура в
Избранный в
--------------------
20 «Veroffentlichungen des Reichsverbandes der deutschen
Industrie», N 50, Januar 1930, S. 41.
21 «Deutsche uber Deutschland. Die Stimme des unbekannten
Politikers». Munchen, 1932, S. 292.
54
на этот счет. Наоборот, Гинденбург
решительно противился попыткам принятия закона, который определял бы условия
применения статьи 48. Так, 22 ноября
Как видим, не только сама
«идея», но и ее обоснование и в этом документе, и в выступлении представителя
верхушки рейхсвера по существу одинаковы. Реакционные силы — монополии,
юнкерство, милитаристы — уже не первый год вынашивали планы ограничения, а то и
ликвидации демократических свобод, устранения рейхстага, установления
диктаторского образа правления. Для них это было не самоцелью, а предпосылкой к
подготовке реванша, а затем и более далеко идущих захватнических замыслов.
Не удивительно, что менее
всего экономический кризис затронул военную промышленность и военный бюджет.
Коммунистическая печать сообщала, что, несмотря на закрытие многих предприятий,
в Рурской области и в других местах вводятся в действие заводы, продукция
которых предназначена для нужд армии23. А когда в июне
Экономический кризис, который
не мог не вызвать серьезных социальных последствий, подстегнул тех, кто делал
ставку на диктатуру (хотя о формах ее с самого начала имелись разногласия).
«Крупная империалистическая буржуазия,— говорится в «Истории германского
рабочего движения»,— стремилась использовать экономический кризис, чтобы
осуществить цели, намеченные еще до этого: освободиться от тягот Версальского
договора и устранить социальные и политические права трудящихся» 25.
---------------------------
22 W. Hubatsch. Hindenburg und der Staat. Gottingen, 1966,
S. 242.
23 «Rote Fahne», 24.ХП 1930.
24 Deutsches Zentralarchiv Potsdam (далее
—DZAP), Buro des Reichsprasidenten, N 46, Bl. 105.
25 «Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung», Bd. 4, Berlin,
1966, S. 223.
55
Хотя Экономическое Положение
неуклонно ухудшалось, оптимизм все еще не покидал многих деятелей правящего
лагеря, в частности лидеров социал-демократии. «Мы переживаем,— писал 11 января
Но суровая действительность
разбила вдребезги подобные прогнозы и заклинания. Экономический кризис только
разгорался, и он нес с собой социальные последствия, глубину которых нельзя
было предвидеть. В этих условиях резко поднялись шансы нацистской партии —
весьма малочисленной, но зато самой шумной из группировок реакционного лагеря.
Разнузданно-демагогический характер ее пропаганды, сочетавшей крайний шовинизм
с антикапиталистическими лозунгами, рассчитанными на обман масс, привлекал к
ней все большее внимание власть имущих и казался чрезвычайно надежным средством
борьбы против революционных сил.
Первые
успехи гитлеровской партии
Нацистская партия возникла в
-----------------------
26 «Vorwarts», 20.IV 1930.
27 DZAP, Reichskanzlei, Kabinettssitzungen, N 749, Bl. 783698.
56
фабрики роялей Бехштейн, воротилы
химического производства в Мюнхене братья Пич, фабриканты Грандель, Бекер и др.28.
Но уже тогда Гитлера заметили и более крупные деятели финансового капитала. То
были Тиссен, как бы олицетворявший своей персоной магнатов тяжелой индустрии
Рура29, и Борзиг, состояние, которого намного уступало
тиссеновскому, но который являлся в ту пору председателем «Объединения союзов
работодателей» Германии30.
С самого же начала своей
деятельности гитлеровцы сделали ставку на безудержную социальную и национальную
демагогию, что нашло свое отражение и в официальном названии их организации —
национал-социалистская рабочая партия (НСДАП). Это название, безусловно,
свидетельствовало о широкой популярности социалистических идей, о стремлении
Гитлера и его единомышленников проникнуть в ряды рабочего класса. Но попытки
фашистов привлечь на свою сторону пролетариат не принесли успеха. За ними, как
правило, шли только некоторые слои мелкой буржуазии, особенно городской,
деклассированные элементы, а также многие бывшие офицеры и унтер-офицеры,
оставшиеся не у дел в связи с резким сокращением армии' и кипевшие злобой на
«ноябрьских преступников», как они именовали деятелей республиканского режима.
Основным содержанием истерических речей Гитлера, а также выступлений его
приверженцев — Геббельса, Розенберга, Геринга, Гесса и др.— были пропаганда
превосходства немцев над другими народами, воспевание '«военных доблестей»,
антикоммунизм, безудержный антисемитизм31, бесстыдная игра на
недовольстве немецкого народа последствиями поражения — недовольстве, которое
германские империалисты стремились использовать в своих антинародных целях.
С Интерес господствующих
классов к гитлеровской партии охладел после провала фашистской авантюры —
мюнхенского путча
--------------------------
28 G. W. F. Hallgarten. Hitler. Reichswehr und Industrie.
Frankfurt a/M., 1955, S. 96, 125.
29 H. Thyssen. I Paid Hitler. New York — Toronto, 1941,
p. 82 ff.
30 H. Radandt. Die Vorgeschichte des EAW «J. W. Stalin»,
Berlin-Treptow,— «Jahrbuch fur
Wirtschaftsgeschichte», 1961, T. 1, S. 188; А. Норден. Фальсификаторы. К истории германо-советских
отношений. М., 1959, стр. 122—123.
31 «Подлинным
антикоммунистом,—говорил Гитлер,— является лишь тот, кто является также
антисемитом» (Е. Calic. Ohne
Maske. Hitler — Breiting Geheimgesprache 1931. Frankfurt a/M., 1968, S. 107).
57
ников значительно сократились, а вместе с
ними и масштабы нацистской пропаганды, ее эффективность. На выборах в рейхстаг
и ландтаги б 1924—1928 гг.
гитлеровцы находились по числу полученных голосов на одном из последних мест.
Численность нацистской партии, даже по данным самих гитлеровцев, в
Именно в
относительно «спокойные» годы Гитлер приобрел новых покровителей из числа
вершителей судеб Германии. Наиболее важное значение имело «обращение» Кирдорфа,
возглавлявшего Союз горнодобывающей промышленности Рура и распоряжавшегося
крупнейшими фондами Союза (а также «Объединения металлургической промышленности
Северо-запада»), которые предназначались для использования в политических
целях. На примере Кирдорфа ярко видна преемственность реакционных «традиций»
германского крупного капитала, связывающая прямой нитью остервенелых
противников организованного рабочего класса в кайзеровские времена с «королями
железа и стали», проложившими путь кровавой фашистской диктатуре в Германии
30-х годов XX в.
Кирдорф впервые встретился с
Гитлером в
-----------------------------
32 G. Binder. Epoche der Entscheidungen. Stuttgart, 1966, S. 183.
33 W. Vlbricht. Der faschistische deutsche Imperialismus (1935—1945). Berlin, 1952, S. 15—16; А.
Норден. Уроки германской истории. М., 1948, стр. 161— 162.
34 P. Merker. Deutschland. Sein oder nicht sein, Bd. 1.
Mexico, 1944, S. 207.
58
ленников 35. Не меньшее
значение имело для нацистов то, ЧТО Кирдорф начал финансировать их из
политических фондов указанных предпринимательских организаций36.
Но хотя гитлеровская партия
всегда была связана с финансовым капиталом, она вплоть до конца
Поводом для сближения
Гугенберга с Гитлером послужила борьба вокруг вопроса о принятии «плана Юнга».
Вопрос этот не мог не вызвать брожения умов, ибо выплата репараций ложилась
дополнительным бременем на народные массы. «План Дауэса», просуществовавший
менее пяти лет, возлагал на Германию невыполнимые обязательства; к тому же
господствующие классы, тяготившиеся контролем над важными отраслями народного
хозяйства, предусмотренным этим планом, сознательно саботировали его
выполнение. Новый план отменял контроль и предполагал существенное снижение
годовых платежей, но и он сохранял тяжелое бремя репараций, которые, в отличие
от «плана Дауэса», не устанавливавшего общих сроков их выплаты, следовало
вносить в течение многих десятков лет. Для националистов это был весьма удобный
предлог, чтобы развернуть демагогическую кампанию еще невиданного размаха и ожесточения,
направленную против существующего режима. Она носила насквозь лживый характер,
что с предельной ясностью вытекает из такого, например, документа, как беседа
Гитлера с редактором «Лейпцигер нойесте нахрихтен» Брейтингом, относящаяся к
несколько более позднему времени. В ответ на вопрос последнего о репарациях
последовал ответ: «Необходи-
-------------
35 Во второй половине
59
мo положить конец деятельности профсоюзов
в ее нынешней форме. Эта политика уничтожила нас. В течение 1925—1928 гг. в
виде зарплаты, социальных платежей, страхования по безработице мы израсходовали
лишних 18 млрд. марок по вине профсоюзов. По сравнению с этим 2 млрд. годовых
платежей по репарациям значат немного» 37.
Такова была подлинная цена
воплям о «контрибуции». А вот свидетельство второго по значению лица в
Национальной партии, тогдашнего председателя ее фракции в рейхстаге Вестарпа.
«В наших кругах,— писал он позднее,— считали, что попытки его («плана Юнга», — Л.
Г.) выполнения продлятся максимум два-три года»38. Экономический
кризис делал осуществление нового репарационного плана еще более нереальным. О
целях, которые преследовали реакционеры, можно судить по высказываниям
кайзеровского адмирала Тирпица (вскоре после этого адепт неограниченной подводной
войны умер), что в борьбе против «плана Юнга» «дело идет об обновлении
Германии» 39. О том, что собой представляет такое обновление, у
врагов республики были разные мнения, но они безоговорочно сходились на одном —
будто это прежде всего ликвидация буржуазной демократии.
Летом
--------
37 Е. Calic. Ohne Maske, S. 47.
38 К. Westarp. Am Grabe der Parteiherrschaft. Berlin,
1932, S. 118.
39 0. Schmidt-Hannover. Umdenken oder Anarchie. Manner,
Schicksale, Lehren. Gottingen, 1959, S. 251.
40 K. Heiden. Adolf Hitler. Eine Biographie. Zurich,
1936, S. 260. Следует отметить, что отнюдь не вся крупная буржуазия возражала
против нацистской антикапиталистической демагогии. Так, газета Народной партии
с пониманием отмечала, что «борьба за влияние на массы вынуждает их
(гитлеровцев.— Л. Г.) к резкому
тону против предпринимателей» («Kolnische Zeitung», 17.III 1930).
60
рования, о которых шла речь выше,
прибавился еще один новый и весьма богатый источник42. Не менее
важны были для гитлеровской партии и разнообразные средства пропаганды
(принадлежавшие Национальной партии), которыми она воспользовалась во время
кампании против «плана Юнга», а в некоторой степени и в дальнейшем.
Что касается
антикапиталистической демагогии, то Гитлер, на словах соглашаясь на отказ от
нее, имел в виду лишь видоизменить ее формы. Кампания против «процентного
рабства» и «хищнического капитала» (время от времени возобновлявшаяся
гитлеровцами и нашедшая отражение в их программе) была насквозь демагогична и
во многом являлась лишь средством разжигания антисемитских настроений. Чего
можно было ожидать от «борцов против капитализма», как именовали себя фашисты,
если важнейшей доктриной гитлеровской идеологии было устранение классовой
борьбы путем подавления пролетариата 43? А громы и молнии, которые
нацисты в поисках популярности метали на головы «эксплуататоров»,
предназначались отнюдь не Круппам, Пенсгенам, Клекнерам и прочим некоронованным
властителям Германии; эти проклятия относились лишь к финансистам или
предпринимателям-евреям, а также к тем капиталистам, как правило, третьей или
четвертой руки, которые почему-либо снискали нерасположение гитлеровцев.
В начале июля
------------
42 Вместе с тем многие местные организации
гитлеровской партии на свой страх и риск обращались к промышленникам с требованиями
материальной помощи. Вот что говорилось, например, в письме, разосланном в
43 «Задача заключается не в том, чтобы
устранить неравенство людей,— говорил Гитлер Раушнингу,— а, наоборот, в том,
чтобы углубить это неравенство и... сделать его законом, поставив непреодолимые
границы (между классами.— Л. Г.)» {И. Rauschning. Gesprache mit Hitler. New York, 1940, S. 44). А
другому своему собеседнику, Брейтингу, он заявил: «Какая глупость—у избирательной
урны профессор и батрачка располагают одинаковыми правами!» (Я: Calic. Ohne Maske, S. 48).
61
такова, Что и президент республики входил
в число ответственных, а следовательно подлежащих наказанию лиц44.
Подобное «неуважение» к
кумиру германского мещанства Гинденбургу вызвало неодобрение отдельных
представителей консервативных кругов и побудило их высказаться против
плебисцита. 21 октября появилось соответствующее воззвание, подписанное
банкиром Я. Гольдшмидтом, бывшим рейхсканцлером Лютером, бывшим кандидатом в
президенты на выборах
В течение октября
В конце ноября законопроект,
лежавший в основе кампании, поступил на рассмотрение рейхстага. Скажем заранее
(эта тема будет более подробно рассмотрена ниже), что правительство «большой
коалиции», где министром внутренних дел являлся социал-демократ Зеверинг, не только
не воспрепятствовало шовинистической кампании, развернутой реакционными
организациями, но, храня внешнюю «объективность», способствовало замыслам
открытых и замаскированных фашистов. Так, из одного обнаруженного нами
архивного документа видно, что некоторые лица, сперва присоединившиеся к
референдуму, в дальнейшем
-----------------------------------------
44 Это вынудило старого реакционера скрепя сердце высказаться
против референдума. Соответствующее сообщение было передано официозным
агентством Вольфа, но предать его широкой гласности Гинденбург запретил; уже
изготовленные плакаты с текстом его заявления пришлось уничтожить! («Das
Kabinett Muller II», 3d. 2, S. 1046).
45 ЦГАОР, ф. 4459, on. 2, ед. хр. 416.
46 F. von Rabenau. Seeckt. Aus seinem Leben 1918—1936.
Leipzig, 1940, S. 646. Еще в мае
47 «Das Kabinett Muller II», Bd. 2, S. 1038, 62
62
пожелали снять свои подписи. Но Зеверинг,
в предыдущие годы стоявший за оставление такого рода подписей в силе, отказался
пересмотреть свою точку зрения, что, конечно, было на руку фашистам 48.
После отклонения рейхстагом
реакционного законопроекта, в соответствии с конституцией, оставалось провести
самый плебисцит, который был назначен на 22 декабря
Затея Гугенберга и его
единомышленников потерпела провал, но отнюдь не все участники кампании
чувствовали себя побежденными. Материальные и пропагандистские средства,
предоставленные в распоряжение гитлеровской партии, оказали ей неоценимую
услугу50. Как единодушно отмечали официальные наблюдатели, из чьих
отчетов был составлен обзор для имперского правительства (датированный 14
октября), нацисты выступали наиболее активно, используя совместные собрания
сторонников плебисцита для агитации за свою партию51. Популярность
последней быстро росла, чему не в малой степени способствовало ухудшение
экономической конъюнктуры. Начиная со второй половины
Фашисты не останавливались ни
перед каким обманом, стремясь умножить число своих сторонников. В их пропаганде
крайний шовинизм, реваншизм, расизм были неразрывно связаны с беззастенчивой
социальной демагогией. И та, и другая стороны этой пропаганды падали на
благоприятную почву, и чем острее становились экономический кризис и сопровождавшее
его обнищание народных масс, тем более многолюдными становились собрания и
митинги, созывавшиеся нацистами не только в каждом мало-мальски крупном городе,
но и в каждой деревне.
----------------------
48 ЦПА
ИМЛ, ф. 215, оп. 1, ед. хр. 156 (письмо имперского распорядителя выборов Вегмана
— В. Дитману от 13 ноября
49 «Jahrbuch des offentlichen Rechts der
Gegenwart», Bd. 21, S. 200.
50 «Сбор подписей и плебисцит,— писал Гитлер в феврале
51 «Das Kabinett Muller II», Bd. 2, S. 1036—1037.
63
![]()
![]()
К концу
Первым симптомом
скачкообразного усиления гитлеровской партии явились выборы в баденский ландтаг
27 октября. В предыдущем его составе, избранном за четыре года до этого,
нацисты вообще не были представлены, да и Баден никогда не был районом
преобладания крайне правых. Но в октябре
Наибольшего успеха в
последние месяцы
--------------------------
52 W. Rage. Deutschland von 1917 bis 1933. Berlin,
1967, S, 355.
53 S. Vietzke, H. Wolgemuth, Deutschland
und die deutsche Arbeiterbewegung in der Zeit der Weimarer Republik. Berlin,
1966, S. 360—361, 356—357.
54 D. Orlow. The History of the Nazi
Party J9J9—1933. Pittsburgh, 1969, p. 177.
55 «Кто располагает
обоими этими министерствами и использует предоставляемую -ими власть настойчиво,
не останавливаясь ни перед чем,— писал Гитлер,— тот может добиться чрезвычайных
результатов» («Vierteljahrshefte fur Zeitgeschichte»,
1966, Н. 4, S. 461).
64
Но респектабельных буржуа, его коллег по
коалиции, это не остановило, как не остановили кровожадные выступления Фрика.
Вероятно, им импонировали слова, произнесенные Фриком незадолго до тюрингских
выборов, в сентябре
Тюрингия была первой землей
Германии, где нацист стал членом правительства, и обстоятельства его создания
как в фокусе демонстрируют позицию правящих кругов по отношению к
нацистской клике, их отеческую заботу о ее благе и процветании. Гневные слова
для характеристики этой преступной политики нашел один из руководителей СДПГ в
Тюрингии, А. Фрелих, выступая в ландтаге 23 января
Гитлеровская клика никогда не
ограничивалась оболваниванием масс; неотъемлемой частью ее деятельности
неизменно был кровавый террор против инакомыслящих. Конечно, в рассматриваемое
время этот террор еще не принял тех масштабов, как, скажем, три года спустя58.
Но и во второй половине
---------------------
56 DZAP, Reichsministerium des Innern, N
26202, Bl. 104; R. M. Kempner. Blueprint of the Nazi Underground — Past
and Future Subversive Activities. — «Research Studies of the State College of
Washington», June 1945, p, 93.
57 ЦПА ИМЛ, ф. 215, on. 1, ед. хр. 94 (брошюра с текстом
выступления Фрелиха). А. Фрелих был активным участником подпольного
Сопротивления в годы гитлеровской диктатуры, а после ее краха — убежденным сторонником
объединения КПГ и СДПГ.
58 «Mord und immer wieder Mord». [Berlin,
1967].
65
форме террористического подавления
противников, применяемой фашистами, — отрядах, перебрасывавшихся на грузовиках
из одной местности в другую. Ясно, что такого рода операции можно было
осуществлять, лишь располагая крупными средствами.
А вот данные из другого
источника — из неопубликованных материалов ТАСС. В телеграмме из Берлина от 7
сентября
В листовке кельнской
организации КПГ, относящейся к началу
Антикоммунизмом было
продиктовано решение, имевшее наиболее тяжелые последствия для исхода борьбы
между силами демократии и реакции в начале 30-х годов в Германии,— роспуск
Союза красных фронтовиков в мае
Из протокола заседания,
состоявшегося в этом министерстве 10 мая
--------------
59 ЦГАОР, ф. 4459, оп. 2, ед. хр. 455.
60 Фонды ГМР, 30122/233 Д445—11П5
66
телями «общественной безопасности и
порядка» являются не коммунисты, а национал-социалисты и «Стальной шлем». Они
говорили также о поддержке, какую последние получают от властей вплоть до
высших имперских учреждений. Но, как и во многих иных случаях, имперское
правительство одержало верх, используя разногласия между отдельными землями
(Бавария, например, поддерживала проект, представленный совещанию), тем более,
что их возражения против запрета «красных фронтовиков» не имели сколько-нибудь
принципиального характера, а проистекали из соображений правового порядка и из
опасений, не вызовет ли это крупных волнений в стране61. Именно к
тем дням относится и другой примечательный документ, приведенный в мемуарах
прусского премьер-министра О. Брауна. Это — письмо о тактике нацистов,
полученное им от тогдашнего рейхсканцлера Мюллера, который отрицал, что
гитлеровцы связаны с рейхсвером и что фашистские отряды вооружены. Говоря о
приказе Гитлера подчиненным придерживаться «законных методов борьбы», Мюллер
утверждал: «Нет никаких сомнений, что этот приказ подлинный и что
национал-социалисты всерьез собираются выполнять его»62. Подобная
«установка» и определяла действия правительственных кругов, не говоря уже о
том, что в более низких звеньях государственного аппарата были весьма сильны
симпатии к гитлеровцам. О том, что в полиции имеются сторонники Гитлера,
говорилось даже в секретных донесениях, поступавших в имперское министерство
внутренних дел 63. Сами нацисты объявили, что на выборах в городское
собрание Берлина в ноябре
Отрицательное значение имела
дезориентация существа и перспектив гитлеризма, проводившаяся в выступлениях
представителей государственной власти, чаще всего социал-демократов. Вот что
говорил, например, министр внутренних дел Пруссии Гржезинский в момент, когда
выявились первые избирательные успехи гитлеровцев — причем не в одной или двух
местностях, а в достаточно разных по своей специфике рай-
------------------------
61 G. Jasper. Der Schutz der Republik. Tubingen, 1963,
S. 305—309, Зеверинг рассматривал с министрами земель и возможность запрета
КПГ, но от этого пришлось отказаться «из-за нехватки полицейских сил».
62 О. Braun. Von Weimar zu Hitler. New York, 1940, S.
268—269.
63 DZAP, Reichsministerium des Innern, N 26202, Bl. 203.
64 R. M, W. Kempner. Blueprint of the Nazi Underground..., p.
109. Характерна судьба меморандума о подрывной деятельности фашистов, из
которого взят этот факт: автор, служащий того же министерства (после войны он
был одним из американских обвинителей на Нюрнбергском процессе, выступил с
несколькими разоблачительными работами о нацизме и неонацизме), направил
меморандум верховному прокурору, но тот тянул дело в течение двух лет, а затем
прекратил его.
67
онах страны: «Я уверен, что эта
национал-социалистская волна точно так же спадет, как подобные ей антисемитские
движения прошлых столетий» 65.
И сведение нацизма к одному
лишь антисемитизму (хотя последний, как конкретное воплощение расизма,
несомненно, играл в гитлеровской идеологии весьма важную роль), и уверения в
том, что фашистская опасность исчезнет сама по себе, лишь помогали нацистам
развертывать свою деятельность. В то время как газеты нередко сообщали новые и
новые подробности финансирования нацистов крупными промышленниками, в прусском
министерстве внутренних дел (вплоть до июля
Не удивительно, что уже на
этой ранней стадии наступления гитлеризма печать — отнюдь не только
коммунистическая — подчеркивала, что решающим условием усиления нацистской
партии является потворство ей со стороны властей. Так, еженедельник
«Вельтбюне», редактором которого был непримиримый борец против реакции и
милитаризма К. Осецкий, в одном из февральских номеров
Если национал-социалисты
добились в Пруссии беспримерного пропагандистского успеха, то они должны быть
благодарны за это в первую очередь не Гитлеру и не Геббельсу, а прусскому
министру внутренних дел Гржезинскому»67.
В конце
-------------------
65 «Vorwarts», 27.XII 1929.
66 «Ursachen und Folgen vom deutschen
Zusammenbruch 1918 und 1945», Bd. VIII. Berlin, 1962, S. 331.
67 «Weltbuhne», 1930, N 6, S. 193.
68
по существу прежними — подавление
прогрессивных элементов, в первую очередь коммунистов. Об этом свидетельствует,
в частности, не так давно опубликованный документ — записка Зеверинга,
содержащая мотивировку нового законопроекта; хотя министр признает здесь, что
нацисты усилили свои террористические действия, и приводит примеры этого, он
ополчается против коммунистов, называя их инициаторами уличных стычек, которые,
по свидетельству многочисленных объективных наблюдателей из самых разных слоев
общества, всегда были результатом заранее подготовленных нападений, совершаемых
гитлеровцами, или провокаций с их стороны, рассчитанных на кровавое
столкновение68. Новый «закон о защите республики», принятый в марте
А отпор этот рабочие оказывали
всегда, и с нарастанием активности нацистской партии он стал приобретать новые
формы. По инициативе коммунистов возникла идея создания антифашистских дружин,
и с этой целью уже в сентябре—октябре
----------------------
68 «Zur innerpolitischen Lage in Deutschland im Herbst 1929».
— «Vierteljahrshefte fur Zeitgeschichte», 1960, N 3, S. 288—289.
69 ЦГАОР, ф. 4459, on. 2, ед. Хр. 416.
70 Там же, ед. хр. 455.
69
зациями. Если Г. Мюллер верил (или делал
вид, что верит) нацистскому «фюреру», якобы запретившему своим приверженцам
вступать в контакт с армией, то для всех, кто не склонен был закрывать глаза
перед лицом фактов, было ясно, что блок милитаристов и фашистов намного усилит
опасность для демократических свобод и укрепит позиции военщины,
заинтересованной в скорейшей подготовке реванша. О том, что «Стальной шлем» и
нацисты Бадена и Гессена устраивают еженедельные военные учения в районе
Оденвальда, используя оружие, принадлежащее рейхсверу, говорилось на упомянутом
выше совещании министров внутренних дел в мае
Еще более интенсивным было
сотрудничество армейского командования с реакционными военизированными
организациями в тогдашней Восточной Германии (после второй мировой войны
возвращенной Польше), где оно обосновывалось якобы существующей опасностью
польского вторжения. В Тюрингии после назначения Фрика министром военная
подготовка гитлеровских штурмовиков, как и отрядов «Стального шлема»,
происходила открыто72.
В начале марта
В
-----------
71 Аналогичные факты вскрылись на заседании правительства 30
октября в связи с обсуждением запрета прусским правительством «Стального шлема»
в Рейнской области и Вестфалии. Военный министр Грёнер, возражая против
запрета, назвал учения «Стального шлема» «игрой в солдатиков»; по его словам,
подлинную военную подготовку проводил только Союз красных фронтовиков. С
Тренером солидаризировался министр иностранных дел Курциус; он заявил, что
внешнеполитические опасности для Германии могут возникнуть лишь в том случае,
если учения, подобные тем, о которых идет речь, будут квалифицироваться как
военные («Das Kabinelt Muller II», S. 1077 ff).
72 «Vorwarts», 27.V 1930.
73 «Daily Herald», 5.III 1930.
74 V. H. Berghahn. Der Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten.
Dusseldorf, 1966, S. 286. 70
Совершенно права была
коммунистическая печать, неутомимо разоблачавшая происки «Стального шлема» и
раскрывшая сущность замыслов его руководства. «Планы «Стального шлема»,— писала
в мае
Сказанное в полной мере можно
отнести и к гитлеровцам, которые в своих словоизвержениях часто были весьма
откровенны. Так, например, нацистский гаулейтер Рурской области Тербовен (во время
войны он «прославился» в качестве гитлеровского наместника оккупированной
Норвегии), выступая в октябре
Требования «радикальных
перемен» касались в первую очередь центральной власти. Речь шла о существенном
изменении политического курса — в сторону постепенной ликвидации буржуазной
демократии — и об отказе в связи с этим от услуг социал-демократии, являвшейся
в Веймарские времена основной социальной опорой германской буржуазии.
Первоочередной задачей реакционных сил были разрыв «большой коалиции» и
удаление социал-демократов из правительства.
-----------------------------
75 ЦГАОР,
ф. 567, on. 1, ед. хр. 1281а, л. 136. Характерно, что публикация этой статьи
послужила одним из поводов для привлечения к судебной ответственности депутата
рейхстага от КПГ А. Бухмана, руководившего ее южнобаварской организацией.
76 DZAP,
Reichsministerium des Innern, N 26202, Bl. 179.
77 H.
Muth. Quellen zu Bruning.-- «Geschichte in Wissenschaft und Unterricht», .
1963, N 4, S. 225.
71
Противоречия в правящем
лагере и смена правительства
К концу года финансовые трудности,
усугубленные экономическим кризисом, обострили противоречия в правящей коалиции
до предела. Выражением этого явилось выступление тогдашнего президента
Рейхсбанка Шахта, предъявившего правительству в декабре
Министром финансов был
назначен ставленник «И. Г. Фарбениндустри» Мольденхауэр. Тем самым была
обеспечена некоторая передышка, во время которой Мюллер и другие министры
социал-демократы предприняли отчаянные попытки сгладить противоречия,
усиливавшиеся с каждым днем развития экономического кризиса. В течение
некоторого времени это удавалось; предстояло утверждение в рейхстаге нового
репарационного плана, и монополии не хотели начинать осуществление своих
внутриполитических целей до введения в действие
------------------------
78 «Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft»,
1962, N 8, S. 1884.
79 «Das Kabinett Muller II», Bd. 2, S. 1298.
80 Даже коллега Гильфердинга по партии Кайль, принадлежавший к
крайне правому ее крылу, писал: «Его ошибка заключается лишь в том, что он
пошел слишком далеко навстречу намерениям буржуазных партий» (W. Keil. Erlebnisse
eines Sozialdemokraten, Bd. II. Stuttgart, 1948, S. 363). Еще более
недвусмысленно высказался на этот счет министр труда социал-демократ Виссель.
Выступая на заседании правительства, он заявил, что политика, проводимая
Гильфердингом, это политика Народной партии; на последней и «лежит вина за то
невероятное положение, которое теперь вынуждает нас капитулировать перед
президентом Рейхсбанка Шахтою. «Das Kabinett Muller II», Bd. 2, S. 1299).,
72
«плана Юнга», который, помимо других
преимуществ, предусматривал эвакуацию из Рейнской области войск стран бывшей
Антанты, находившихся там со времени окончания первой мировой войны.
Но за кулисами уже давно
велась деятельная подготовка к замене правительства, что должно было открыть
путь к отказу от прежних, парламентарных методов управления. Как видно из
документов, уже в марте
Как мы знаем, на деле реакция
сумела вплотную приступить к реализации своих замыслов значительно позднее.
Подготовка к этому шла по разным линиям. Открытые фашисты действовали на улицах
и площадях, а в то же самое время в кабинетах монополистов и реакционных
политических деятелей намечались контуры правительства нового типа, которое
условно называли «президиальным»; в качестве главной своей опоры оно должно
было иметь не парламент, а президента, т. е. быть еще более оторванным от
народа, чем прежние правительства Веймарской республики.
В своих мемуарах бывший
рейхсканцлер Брюнинг сообщает, что во время его встречи с генералом Шлейхером
весной
-------------------------------------------
81 К. D. Bracher. Die Auflosung der Weimarer Republik.
Stuttgart, 1957, S. 322—323; E. Jonas. Die Volkskonservativen 1928—1933.
Dusseldorf, 1965, S. 186—188.
82 H. Bruning. Memoiren 1918—1934. Stuttgart, 1970, S.
145.
73
единственно правильным будет действовать
при помощи статьи 48» 83.
Этим круги, заинтересованные
в том, чтобы направить развитие политической жизни по антидемократическому
пути, не ограничивались. Большую активность проявляли, в частности,
оппозиционные группировки внутри Национальной партии, находившиеся в тесном
контакте с деятелями правого крыла католической партии Центра. Бывший морской
офицер Тревиранус, соперничавший с Гугенбергом из-за руководства Национальной
партией, и группа его единомышленников стремились направить партию в сторону
блока с другими «старыми» буржуазными партиями с целью создания коалиционного
правительства без социал-демократов и без опоры на рейхстаг. В частном письме,
датированном 1 августа
В номере от 1 января
Так, обер-бургомистр
Дуйсбурга Яррес, озаглавивший свой ответ «Долой половинчатости», писал:
«Парламентаризм в его нынешней форме... не соответствует немецкому духу и не
годится для немецкой политической жизни». Ответ известного историка Ф. Майнеке
назывался «Укрепление государственной власти»: «Чего сегодня не хватает нашему
государству,— это сильной и самостоятельной правительственной власти...
Демократия должна научиться самоограничению. Это облегчит президенту
использование прав, которые конституция уже теперь предоставляет ему (намек на
статью 48. — Л. Г.) и расширения, которых следует пожелать». Генерал
Сект, высказывая те же идеи, пугал всяческими опасностями для государства, «чьи
защитные устои колеблются». Обер-бургомистр Кёльна К. Аде-
--------------------
83 К.
D. Bracher. Die Auflosung tier Weimarer Republik, S. 306.
84 «Gesellschaft», 1930, N 1, S. 5.
74
науэр, принадлежавший к партии Центра,
призывал к сплочению, «как в
Среди тех, кто действовал за
кулисами, осуществляя предначертания воротил капитала, все более важную роль
начинал играть генерал Шлейхер, номинально занимавший лишь скромный пост
начальника одного из отделов военного министерства. Эта роль определялась,
во-первых, тем, что он был наиболее близким сотрудником военного министра,
генерала Грёнера, а во-вторых, тем, что Шлейхер в свое время служил в одном
полку с сыном президента республики полковником О. Гинденбургом, оказывавшим
немалое влияние на отца.
С лета
«При падении данного
правительства — не роспуск рейхстага, а создание нового кабинета на
надпартийной основе. С этой целью назначение Брюнинга... с поручением
сформировать правительство, не прибегая к опросу фракций и не беря на себя
никаких обязательств коалиционного характера» 91. В этих словах
конкретизировалась программа, с которой выступил в декабре
--------------------
85 «Kolnische Zeitung», I.I 1930.
86 «Deutsche Allgemeine Zeitung», 1.1 1930.
87 K. D. Bracher. Die Auflosung der Weimarer Republik, S.
306.
88 H. Punder. Politik in der Reichskanzlei. Stuttgart,
1961, S. 45.
89 Th.
Vogelsang. Reichswehr, Staat und NSDAP, Stuttgart, 1962, S. 70.
90 По
некоторым сведениям, угрозой своего ухода с поста военного министра в случае
предоставления таких полномочий Мюллеру Грёнер торпедировал правительство
(«Dortmunder Generalanzeiger», 14.II 1932)
91 «Das
Ende der Parteien 1933». Dusseldorf, 1960, S. 193.
75
тились ближайшие стремления наиболее
реакционной группировки правящих кругов, тяготившейся необходимостью
оглядываться на социал-демократию в том наступлении на экономическое положение
и политические права трудящихся, которое начинала крупная германская буржуазия.
Для подкрепления этой программы в адрес Гинденбурга почти ежедневно поступали
письма его консервативных друзей — помещиков, капиталистов, представителей
военщины, протестовавших против «господства партий».
В новой беседе Гинденбурга с
Вестарпом, состоявшейся 15 января
В качестве главного
исполнителя программы реакционеров был намечен Брюнинг, до того времени
малозаметная фигура на буржуазном политическом горизонте. Правда, есть
сведения, что он обратил на себя внимание тех, кто вращался за кулисами
рейхстага (а Шлейхер, как «политический генерал», был в курсе всех
парламентских махинаций), деятельной помощью рейхсверу в преодолении финансовых
трудностей при утверждении военного бюджета, в котором, помимо открытых статей,
имелось немало замаскированных. Хотя Брюнинг долго утверждал, что был назначен
на пост рейхсканцлера против своей воли93, а некоторые
западногерманские буржуазные историки, грубо попирая факты, говорят, будто
Брюнинг не принимал никакого участия в закулисных махинациях против кабинета
Мюллера94, источники свидетельствуют об обратном. К числу подобных
источников относятся и мемуары самого Брюнинга.
Очевидно, Шлейхер,
выступавший от имени своих высоких покровителей, первым познакомился с
взглядами финансового эксперта партии Центра, в годы первой 'мировой войны
добровольно ушедшего воевать и навсегда оставшегося поклонником
------------------------------------
92 W. Conze. Die Krise des Parteienstaates in
Deutschland 1929/30.—«Historische Zeitschrift», 1954, Bd. 178, N 1, S. 78—80; E.
Jonas. Die Volkskonservativen 1928—1933, S. 63.
93 «Deutsche Rundschau», 1954, N 4, S. 346.
94 W. Conze. Brunings Politik unter dem Druck der grossen
Krise.— «Historische Zeitschrift», 1964, Bd. 199, N 3, S. 543; «Staat, Wirtschaft und Politik in der Weimarer
Republik. Festschrift fur H. Bruning». Berlin, 1967, S. 208.
76
«фронтового духа», монархистом в душе, и
все еще чувствовавшего себя подчиненным своего главнокомандующего, ныне
президента республики 95.
Когда Тревиранус писал о
намерении партии Центра осуществить «решительную реформу в области управления и
финансов», то он имел в виду прежде всего Брюнинга, который (его воспоминания
не оставляют малейших сомнений в этом) имел хорошо продуманную программу
реставрации кайзеровских порядков, включая восстановление монархии.
В конце
Если верить Брюнингу, он
заявил Грёнеру, что «уже из соображений лояльности он ни при каких условиях не
может стать преемником Мюллера»98. Как известно, это все же не
помешало Брюнингу занять пост рейхсканцлера (Мюллер, очевидно недостаточно
осведомленный о закулисной роли Брюнинга, по словам последнего, после своей
отставки даже поблагодарил его... за помощь!). Завершением предварительных
переговоров был прием Брюнинга главой государства. Формально Брюнинг
представлялся Гинденбургу как вновь избранный председатель парламентской
фракции Центра, но цель беседы была совсем иной, и именно поэтому она вопреки
обычаю продолжалась чрезвычайно долго 99.
Решающая встреча между
президентом и кандидатом на пост главы правительства произошла позднее, во
время прохождения «плана Юнга» и финансовой программы правительства Мюллера
через рейхстаг. В этот момент Брюнинг продолжал играть роль посредника между
двумя крайними группировками правительственной коалиции, внося компромиссные
предложения, а за кулисами заканчивались переговоры о формировании нового
кабинета.
------------------------------------------
95 В.
Мeппе. The Case of Dr. Bruening. London, [1942], p.39
96 H.
Bruning. Memoiren 1918—1934, S. 150.
97 G. R. Treviranus. Das Ende vom Weimar. Heinrich Bruning und
seine Zeit. Dusseldorf — Wien, 1968, S. 114.
98 H. Bruning. Memoiren 1918—1934, S. 150.
99 J.
W. Wheeler-Bennett, Wooden Titan. Hindenburg in Twenty Years of German
History. New York, 1936, p. 341.
77
Реакционные организации
утроили свои усилия, стремясь добиться отклонения «плана Юнга» рейхстагом; они
добивались насильственного освобождения от репараций — не потому, что последние
являлись тяжелым бременем для парода, а потому, что они создавали
дополнительное препятствие для быстрейшего восстановления военного потенциала
Германии, для ускорения темпов подготовки реванша. С той же целью шовинисты и
милитаристы оказывали сильнейшее давление на Гинденбурга, которого заклинали не
подписывать «план Юнга», если он будет одобрен рейхстагом. И то, и другое не
увенчалось успехом: план был ратифицирован парламентом 12 марта, а затем
подписан президентом. Это объяснялось тем, что правящие круги более трезво, чем
Гитлер и Гугенберг, оценивали обстановку и стремились использовать реальные
выгоды, которые предоставлял им новый план.
Совершенно иначе обстояло
дело с утверждением бюджета. Конфликт между народной и социал-демократической
партиями по вопросу о страховании по безработице и другим статьям расходов,
отражавший волю господствующих классов осуществить свои намерения вопреки
интересам социал-демократии, вел к неминуемому разрыву. Правда, Мюллер и его
коллеги по партии делали все, чтобы «уладить» отношения, не желая видеть того,
что было слишком очевидно,— стремления буржуазии покончить с их участием в
правительстве. Во время обсуждения на заседании правительства 28 февраля
Меньше чем за десять дней до
своей отставки кабинет принял к неукоснительному руководству раздраженное
письмо Гинденбурга о крайней недостаточности ассигнований на «Восточную помощь»
(средств, выделявшихся на поддержку остэльб-ского юнкерства). И хотя на
заседании правительства 20 марта тогдашний министр продовольствия Дитрих
признал, что уже предоставленные суммы «были использованы в Восточной Пруссии
преимущественно в интересах крупных землевладельцев» 101, кабинет
утвердил продиктованные Гинденбургом меры.
Общее положение в результате
этого, однако, не менялось. Лидеры социал-демократии перешагнули в своем
стремлении к компромиссу все пределы, но речь шла о большем. Предметом наиболее
острых споров служил, казалось, вопрос о том, кто — рабочие или предприниматели
— должны повысить взносы в
---------------------
100 DZAP, Reichskanzlei, Kabinettssitzungen, N 748, Bl. 782864.
101 DZAP, Reichskanzlei, Kabinettssitzungen, N 749, Bl. 783160
ff.
78
фонд страхования по безработице.
Социал-демократическая верхушка была готова на увеличение доли взносов рабочей
стороны, но натолкнулась на сопротивление руководителей профсоюзов 102.
Да и как можно было объяснить пролетарию необходимость этого (или необходимость
сокращения пенсий и других социальных расходов) в то время, как ассигнования на
военные нужды превышали прошлогодние на 30 млн. марок? 103 Предприниматели,
рупором которых выступала Народная партия, с самого начала упорно отказывались
увеличить взносы в фонд страхования. Они настаивали на «санации» этого
фонда, что означало сокращение размеров пособий, сроков их выплаты и т. п.
Но после ратификации «плана
Юнга» к Народной партии присоединилась также партия Центра. Переговоры о
создании нового правительства во главе с лидером этой партии были в основном
завершены, в кармане у Брюнинга, по словам одного деятеля СДПГ, уже имелся
список членов нового кабинета, и Центр был теперь заинтересован лишь в том,
чтобы возложить па социал-демократию пропагандистскую ответственность за разрыв
«большой коалиции», хотя не подлежит никакому сомнению, что не СДПГ, а
буржуазные партии и стоявшие за ними монополистические круги стремились к этому104.
Формальную «вину» за неудачу попыток найти решение финансовых проблем
попытались взвалить на представителей СДПГ, которые под давлением профсоюзов
отвергли требование о повышении взносов рабочих в фонд страхования, после чего
кабинет подал в отставку. Фактически же это было лишь завершением операции,
давно задуманной и теперь осуществленной господствующими классами.
Свидетельство тому —
комментарии, изо дня в день публиковавшиеся в центральном органе партии Центра
и имевшие целью уже непосредственно подготовить переход к «президиальной» форме
правления. Так, 12 марта газета писала: '«Если парламент неспособен выполнить
возложенные на него обязанности, то президент республики... примет на себя
необходимые и допустимые полномочия. Предстоит роспуск рейхстага или применение
статьи 48, или, если партии желают, то и другое вместе» 105.
-----------------
102 «Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung», Bd. 4, S. 257.
103 H.
Timm. Die deutsche Sozialpolitik und der Bruch der Grossen Koalition.... S.
170.
104 K. Mammach. Der Sturz der grossen Koalition im Marz
1930.— «Zeitschrift fur Geschichtswissеnschaft, 1968, H. 5, S. 579.
105 «Germania», 12.111 1930. По сообщению Тревирануса, как раз 11
марта Гинденбург дал Брюнингу обещание применить статью 48 конституции в том
случае, если политические партии не придут к соглашению (G.R. Treviranus.
Das Ende von Weimar, S. 296).
79
Правительство Мюллера вышло в
отставку 27 марта, а уже 30 марта приступил к исполнению своих обязанностей
новый кабинет во главе с Брюнингом. Такая совершенно необычная для германского
парламентаризма с его обилием партий быстрота объяснялась тем, что формирование
правительства фактически произошло еще во время пребывания у власти его
предшественника 106.
Есть и прямые документы,
доказывающие это. Министром продовольствия должен был стать председатель
реакционного союза землевладельцев «Ландбунд» Шиле; это было решено в
результате встречи последнего с Гинденбургом, состоявшейся за много времени до
отставки Мюллера. Чрезвычайно характерно, что Шиле, ярый сторонник аграрного
протекционизма, обусловил свое вхождение в правительство выполнением выдвинутой
им программы, включая, в случае необходимости, применение с этой целью роспуска
рейхстага и использование статьи 48 конституции 107. Это
свидетельство представляется нам особенно важным, ибо оно наглядно раскрывает
замыслы правящих кругов, уже тогда имевших в виду такое «толкование» статьи 48,
которое позволило бы пустить ее в ход не только (и не столько) в случае
«нарушения общественной безопасности», а всегда, когда у господствующих классов
возникает в этом потребность.
В Потсдамском архиве (ГДР)
хранится письмо Шиле Гинденбургу от 29 марта, как бы завершающее их переговоры
о вступлении главы «Ландбунда» в правительство. Вновь изложив свою программу,
предусматривавшую резкое повышение пошлин на сельскохозяйственные продукты,
значительное расширение «Восточной помощи» и некоторые другие экономические
мероприятия, Шиле писал: «Тем более вынужден я придать решающее значение
уверенности в том, что кабинет готов провести те требования, которые я в
качестве министра продовольствия посчитаю необходимыми, при любых условиях — в
том числе, если это необходимо, против большинства рейхстага». Шиле добавлял,
что он имеет в виду «конституционные средства», но совершенно ясно, что речь
шла исключительно о «диктаторском» параграфе конституции 108.
--------------------
106 Существенным моментом в формировании нового кабинета была
беседа 28 марта Тревирануса (по поручению Брюнинга) с одним из руководителей
Союза германской промышленности, Кастлем. Кастль заявил, что данное решение— «наилучшее
из всех возможных», и пообещал новому правительству «любую поддержку» (G. R.
Treviranus. Das Ende von Weimar, S. 118).
107 W. Conze. Die Krise des Parteienstaates in
Deutschland 1929/30, S. 81—82.
108 DZAP, Buro des Reichsprasidenten, N 46, Bl. 1. Письмо
кончалось выражением мнения Шиле, что предпосылкой для создания нового
имперского правительства должно быть удаление представителей СДПГ и из
прусского кабинета (Ibid., S. 14).
80
В расчетах Брюнинга важное
место отводилось уже упоминавшейся группе деятелей Национальной партии, близких
ему по взглядам. В декабре
Политическая борьба весной и летом
Роспуск рейхстага
Уже 1 апреля правительство
предстало перед рейхстагом, и первыми его словами, обращенными к парламенту,
были угрозы. В декларации, зачитанной Брюнингом, было сказано: «Это будет
последняя попытка найти решение (насущных вопросов.— Л. Г.) с этим
рейхстагом»110. Рейхсканцлер заявил, что правительство «намерено и
имеет возможность применить все конституционные средства». О том, что это
означает, уже неоднократно говорилось выше. Большое внимание уделялось в
декларации «необходимости» проведения суровой экономии общественных расходов,
что в первую очередь касалось социального страхования, а наряду с этим — планам
максимального расширения «Восточной помощи». Брюнинг здесь же отметил, что
>«и эти мероприятия недостаточны для обеспечения необходимой связи между
германцами в Восточной марке и на родине»111. Обращает на себя
внимание терминология, заимствованная из традиционного словаря немецких
шовинистов и особенно широко использовавшаяся в тот период гитлеровцами.
Угрозы, с которыми правительство выступило в рейхстаге,
------------------------------------------
109 P. Roeske. Bruning und die Volkskonservativen.-
«Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft, 1971, N 7.
110 «Verhandlungen des Reichstages», Bd. 427, S. 4728.
111 Ibid., S. 4730.
81
отнюдь не были рассчитаны только на запугивание.
Это вытекает из протоколов заседаний кабинета, состоявшихся в первые дни
апреля. Так, 3 апреля, накануне голосования в парламенте вотума недоверия,
внесенного коммунистической, а также социал-демократической фракциями, вопрос о
«санкциях» по отношению к рейхстагу был предметом длительного обсуждения
правительства. Он рассматривался на двух заседаниях с самых разных сторон и с
максимальной конкретностью. Министры, в частности, высказали свою точку зрения
на то, следует ли распустить парламент до принятия вотума недоверия или после.
И сам Брюнинг, и Вирт, занимавший пост министра внутренних дел, и министр
иностранных дел Курциус придерживались мнения о предпочтительности роспуска
лишь после того, как рейхстаг выразит недоверие правительству112.
Мейсснер поставил министров в известность, что Гинденбург намерен утвердить
кабинет в должности сразу же после принятия вотума недоверия 113.
Другой обсуждавшийся в данной
связи вопрос — можно ли проводить при помощи статьи 48 социально-экономические
мероприятия. В материалах, приложенных к протоколам указанных заседаний,
имеется документ, «обосновывавший» возможность использования этой статьи для
введения бюджета, «Восточной помощи» и т. п. Но интересно, что Брюнинг,
выступая по этому поводу, сказал, что он не хотел бы подобного развития событий114.
Вероятно, даже рейхсканцлер видел, что столь явное нарушение конституции может
вызвать нежелательные последствия. Вирт поднял вопрос, можно ли проводить те
или иные мероприятия на основании статьи 48, не распуская рейхстаг. Ему ответил
Мейсснер, подтвердивший, что Гинденбург готов принять и такой вариант115.
В определенных отношениях он был предпочтительнее для партий, к которым
принадлежало подавляющее большинство министров и которые от новых выборов могли
только проиграть.
На рассмотрение рейхстага
была поставлена финансовая программа, состоявшая из двух частей — о новых
налогах и о пошлинах; по настоянию правительства они могли быть приняты или
отклонены лишь вместе {целью этого маневра было обеспечить поддержку
максимального числа депутатов). Предусматривалось введение новых косвенных
налогов на сумму 448 млн. марок; не менее сильно должно было ударить по массам
повышение пошлин, предпринятое в угоду юнкерам. Для начала значительно
увеличивались пошлины на пшеницу,
--------------------
112 DZAP, Reichskanzlei, Kabinettssitzungen, N 749, Bl.
783230—783231.
113 Ibid., Bl. 783230.
114 Ibid.,
Bl. 783232 ff.
115 Ibid., Bl. 783240.
82
ячмень, кормовое зерно и пр. Правительство
требовало чрезвычайных полномочий на дальнейшее их повышение без
дополнительного разрешения рейхстага 116. Голосование, состоявшееся
в рейхстаге 4 апреля, временно отсрочило решение наиболее острых вопросов.
Кабинету было высказано доверие незначительным большинством; оно образовалось,
с одной стороны, благодаря благожелательной позиции Национальной партии,
которой импонировала программа Брюнинга в области сельского хозяйства, с другой
же, благодаря тому, что в голосовании не участвовали 24 депутата-социалиста, в
том числе лидеры СДПГ Мюллер, Браун, Гильфердинг, Шмидт и другие, явно не
согласные с решением о переходе партии в оппозицию. Но впереди было обсуждение
конкретных социально-экономических мероприятий, и тактика Брюнинга и его коллег
оставалась прежней: при каждом удобном и неудобном случае напоминать рейхстагу,
что первый же признак неповиновения с его стороны вызовет роспуск и применение
статьи 48. С такими угрозами рейхсканцлер вновь выступил 12 апреля, когда
обсуждалась финансовая программа правительства117, Как пишет один
буржуазный историк, критически оценивающий деятельность Брюнинга, тот
сознательно провоцировал рейхстаг118.
Вероятно, правящие круги
примирились бы с большинством из буржуазных партий (включая националистов), но
оно имело весьма случайный характер, что подтвердилось в ближайшем будущем, А в
противном случае Брюнинг и поддерживавшие его круги стремились идти напролом —
в соответствии с программой, намеченной воротилами тяжелой промышленности. Вот
что записал 2 апреля статс-секретарь рейхсканцелярии Пюндер, поверявший своему
дневнику вещи, которые произвели бы подлинную сенсацию, будь они обнародованы
тогда: «Брюнинг и я неоднократно говорили себе, что принятие вотума недоверия
было бы, собственно, наиболее приемлемо. Тогда сразу же последовал бы роспуск и
закончились все трудности и трения с рейхстагом... Во время заседания при мне
находилась красная папка с соответствующим декретом» 119.
Пресловутая папка была в руках Пюндера и 12 апреля120. На одном из
заседаний кабинета Брюнинг недвусмысленно заявил, что «это — не обычное
правительство; оно не создано, чтобы выполнить свою задачу обычным путем» 121.
А о том, какова эта задача, как раз накануне прихода нового прави-
-----------------------------
116 «4
Monate Burning-Regierung. Handbuch der Kommunistischen Reichstagsfraktion».
Berlin, 1930, S. 45.
117 «Verhandlungen des Reichstags», Bd. 427, S. 4921
118 B. Menne. The Case of Dr. Bruening, p. 53.
119 H. Punder. Politik in der Reichskanzlei, S. 47, 48.
120 Ibidem, S. 50.
121 DZAP, Reichskanzlei, Kabinettssitzungen, N 750, Bl.
7.84349.
83
тельства к власти — 28 марта — напомнил не
кто иной, как редактор органа биржи «Берлинер берзенцейтунг» и доверенное лицо
монополий Функ, позднее министр экономики гитлеровской Германии. В докладе,
прочитанном перед предпринимателями, он сказал: «Тарифная заработная плата в
Германии слишком высока. Одной из важнейших задач нового правительства будет
устранение жесткости тарифной системы в политике заработной платы... В этой
связи непременной предпосылкой является требование, чтобы страхование по
безработице, как и социальное страхование вообще, было полностью перестроено на
новых, т. е. продуктивных и частнохозяйственных основаниях» 122.
В двух-трех фразах будущий
гитлеровец сформулировал то, что на практике и составило суть всей деятельности
кабинета Брюнинга. Если здесь и не было прямо сказано о необходимости фашизации
общественной жизни, то лишь потому, что и без того было вполне очевидно;
осуществление программы похода на рабочий класс и другие слои трудящихся
невозможно без более или менее полной ликвидации даже тех ограниченных
демократических свобод, которые предоставляла Веймарская конституция. Как писал
в это время крупный сталепромышленник Шленкер, возглавлявший «Объединение по
охране общих экономических интересов в Рейнской области и Вестфалии», «мы
должны уделять внимание опытам Муссолини и учиться на них» 123. Как
видно, возглас: «Муссолини!» — на собрании Союза германской промышленности в
конце
Характеристика правительства
Брюнинга была бы весьма неполной, если отвлечься от позиции, занятой им по
отношению к Советскому Союзу. Известно, что для веймарской Германии
дружественные связи с СССР имели огромное значение, позволяя ей противостоять
нажиму со стороны держав-победительниц. «Политика Рапалло», хотя правящие круги
Германии и выказывали склонность отойти от нее, во многом оставалась в силе,
ибо того требовали интересы самой Германии. Закреплением этой политики явился
заключенный в
------------------
122 Цит. по: «Rote
Fahne», 2.1V 1930.
123 W Sorgel Metallindustrie und Nationalsozialismus.
Frankfurt a/M, 1965, S. 23.
84
него плана, имели большое значение для
смягчения страшной хозяйственной разрухи. Но с самого начала правительство
Брюнинга и в особенности его глава показали свое нежелание поддерживать хорошие
отношения с СССР 124.
Уже в мае
Позднее, когда экономический
кризис еще более углубился и сами промышленники проявляли острую
заинтересованность в советских заказах, правительство Брюнинга не только не
способствовало расширению связей, а чинило этому препятствия. 31 .августа
-----------------------
124 См. «Документы внешней политики СССР», т.
125 DZAP, Reichskanzlei, Kabinettssitzungen, N 750, Bl. 783736.
126 H.
I. Dyck. Weimar Germany and Soviet Russia 1926—1933. London, 1966, p. 217.
127 Н. Bruning. Die Vereinigten Staaten und Europa.
Dusseldorf — Stuttgart, 1954, S. 11. Это было сделано, как признал Брюнинг,
вопреки точке зрения МИД (//. Bruning. Memoiren 1918—1934, S. 295—296).
128 Историко-дипломатический архив, ф. 330, д.
129 Там же, л. 241.
85
шие в Германии у власти, относились к
Советскому Союзу, то, естественно, на них не мог повлиять тот аргумент, что
благодаря советским заказам сотни тысяч немецких рабочих не пополняют собой
многомиллионной армии безработных.
В этом правящие круги имели
единомышленников в лице руководящей верхушки социал-демократической партии.
Лидеры СДПГ переносили на Советский Союз свою вражду к коммунистической партии,
особенно усилившуюся после расстрела полицей-президентом Берлина
социал-демократом Цергибелем первомайской демонстрации рабочих германской
столицы. Мы уже говорили о роли лидеров СДПГ в роспуске Союза красных
фронтовиков. А вот что писал в начале
В социал-демократической
прессе, в публичных выступлениях представителей СДПГ вновь и вновь
гальванизировался клеветнический тезис о «руке Москвы» 131.
Постоянным нападкам подвергалось «Общество друзей Советского Союза» —
организация, в деятельности которой активно участвовали люди, принадлежавшие к
самым различным слоям немецкого общества, к разным партиям. До лета
Это дает наглядное
представление о позициях, которые занимала СДПГ, даже являясь официально уже
оппозиционной партией. Ее лидеры рассматривали создавшееся положение как
обычный перерыв в пребывании у власти, стремясь укрепить свои позиции в>
массах за время этого перерыва и вместе с тем подчеркивая, что они всегда
готовы вернуться в правительство, если их позовут. «Социал-демократическая
фракция,— заявил ее председатель Брейтшейд, выступая в парламенте сразу же
после оглашения правительственной декларации,—
------------------
130 «Vorwarts»,, 27.II 1930.
131 О лживости этого тезиса свидетельствует упоминавшийся выше
английский автор, который пишет, что ни одно обвинение против Советского Союза
во «вмешательстве во внутренние дела» Германии не подтвердилось документально (Н.
L. Dyck. Weimar Germany and Soviet Russia 1926—1933, p. 183, 186).
132 «Vorwarts», 7.VI 1930.
86
самая многочисленная фракция рейхстага,
как и прежде, всегда готова принять свою долю ответственности» 133.
Вполне определенным симптомом
было «откомандирование» части депутатов, о чем уже говорилось выше и что
позволило Брюнингу удержаться у власти без роспуска рейхстага на данном этапе134.
17 апреля Центральный комитет СДПГ писал, что «положение будет гораздо яснее,
если правительство еще в течение некоторого времени останется у власти». В этих
словах уже заключался зародыш позднейшей политики «меньшего зла» — оттяжка
«решительного боя» на неопределенное время.
В своих воспоминаниях Брюнинг
уделяет много внимания отношениям с социал-демократическими лидерами, порой
приводя факты или сообщая о таких их шагах, которые характеризуют политику
руководства СДПГ в крайне неблагоприятном, с точки зрения трудящихся масс,
свете. Так, по его словам, в момент формирования правительства к нему явился
один из виднейших деятелей партии и предложил ее поддержку при условии, если
Брюнинг откажется от намерения включить Шиле и Тревирануса, недавних активных
националистов, в состав своего кабинета. Этот человек ответил утвердительно на
вопрос Брюнинга, готова ли СДПГ принять предлагаемую им программу «реформы»
страхования по безработице и финансов в целом. На следующий день представитель
руководства СДПГ фактически снял возражения против Шиле и даже против
Тревирануса, фигуры весьма одиозной для широких масс. Тем не менее, Брюнинг
отверг сделанное ему предложение, ибо он все еще надеялся на соглашение с
Национальной партией, что являлось его сокровенной целью в течение всех
последующих лет 135.
Если эпизод, рассказанный
Брюнингом, действительно имел место, то он лишь мог способствовать тому, что
пропаганда СДПГ вплоть до середины сентября
----------------
133 «Verhandlungen des Reichstags», Bd. 427, S. 4732,
134 Эта
тактика руководства вызвала сильнейшее негодование рабочих социал-демократов.
Правление СДПГ получало сотни негодующих писем и было вынуждено опубликовать
специальное разъяснение, где утверждалось, будто неявка ряда депутатов на
голосование вотума недоверия имела «случайный характер» («Sozialdemokratische
Parteikorrespondenz», 1930, N 5, S. 290). Позднее, когда Брюнинг стал целиком
зависеть от голосов СДПГ, Правление вынесло решение, что при голосовании
обязательно присутствие всей фракции.
135 Н. Bruning. Memoiren 1918—1934, S. 167, 169, 180.
87
ское правительство: готовность совершить
нарушение конституции заранее была предпосылкой его существования»,— писал один
из теоретиков СДПГ, Декер136. «На политику правительства Брюнинга
оказывают влияние наиболее реакционные группы буржуазного блока»,—признавали
социал-демократические лидеры 137. А газета «Форвертс» уверяла
сторонников партии, что «у социал-демократов нет пощады для этого
правительства». Газета совершенно справедливо отмечала, что «Бредт, Шиле,
Тревиранус не республиканцы, они опасны для республики» 138.
Все эти оценки представляют
несомненный интерес, прежде всего, потому, что они разоблачают самих
социал-демократических лидеров, после выборов в рейхстаг 14 сентября перешедших
к прямой поддержке правительства, хотя реакционный характер его политики еще
более усугубился. Приведем для полноты картины еще высказывания лидеров и'
печати СДПГ относительно планов использования Брюнингом статьи 48 конституции.
«С точки зрения государственного права это невозможно,— можно прочитать на
страницах «Форвертс» от 2 апреля
Единственной партией, не на
словах, а на деле развернувшей непримиримую борьбу против реакционного правительства,
была КПГ. «Мы не имеем к этому правительству ни искры доверия,—заявил Т.
Нейбауэр, выступая в рейхстаге от имени коммунистической фракции.— Мы
рассматриваем это правительство как воплощение системы грубейшей и беспощадной
эксплуатации» 140. Конкретизируя это, «Роте фане» писала:
«Ликвидация последних жалких остатков социальной политики, новое ухудшение и
без того пострадавшего (уже при кабинете Мюллера.— Л. Г.) страхования по
безработице, снижение заработной платы рабочим — вот программа правительства
Гинденбурга» 141. Оценивая социальное существо смены правительства,
Э. Тельман указывал, что в этом событии «определенно выра-
---------------------------------------
136 «Gesellschaft», 1930, N 9, S- 199.
137 «Sozialdemokratische Parteikorrespondenz», 1930, N 9, S.
275.
138 «Vorwarts», 3.IV 1930.
139 «Gesellschaft», 1930, N 5, S- 392.
140 «Verhandlungen des Reichstags», Bd. 427, S. 5103.
141 «Rote Fahne», 30.111 1930.
88
зилось желание буржуазии перейти к прямой
диктатуре на основе заострения классовой ситуации» 142.
Фашизация, происходившая в
Германии, не ограничивалась вариантом, который представляли сам Брюнинг и его
кабинет (этот вариант обозначается в литературе термином «холодная»—
постепенная — фашизация). Как мы знаем, в Тюрингии имелся и другой, значительно
более «горячий» вариант, связанный с деятельностью гитлеровца Фрика. Нацистский
эмиссар (он не имел никакого отношения к Тюрингии, ибо до этого жил только в
Баварии) усердно выполнял наказ, полученный им от Гитлера и сводившийся к
установлению единовластия и заполнению государственного аппарата Тюрингии
нацистами, «где только это возможно» 143
Уже в середине апреля
правительство Брюнинга капитулировало перед Фриком и отменило секвестр на
ассигнования Тюрингии из имперского бюджета, незадолго до этого наложенный
министерством внутренних дел. Но спустя месяц имперским властям пришлось
вернуться к данному вопросу. Вирт пригрозил обратиться в Верховный суд
(несколько позднее на некоторое время секвестр был введен вновь). Более
серьезных мер правительство Брюнинга не приняло, несмотря на то, что Фрик и его
подручные открыто издевались над государственными учреждениями и деятелями,
грубо нарушали законы.
Политика потворства фашизму
вызвала бичующие отклики со стороны тех, кому были дороги судьбы страны. Даже
некоторые органы буржуазной печати выражали свое негодование терпимостью
правительства Брюнинга и профашистским курсом буржуазных партий, предоставивших
Фрику возможность превратить Тюрингию в очаг фашистского мракобесия. Так,
газета «Франкфуртер цейтунг» отмечала, что у имперских властей «имеются другие
средства вмешательства, которые они должны были бы применить». Газета
подчеркивала далее, что гитлеризм не сумел бы один творить в Тюрингии
чудовищные бесчинства. «Лишь другие буржуазные и так называемые срединные
партии, включая Народную партию, делают это возможным.., Здесь нужно говорить
не о соучастии, а о решающей вине и ответственности коалиционных партий» U4.[K
этому можно лишь добавить, что правление Фрика длилось еще около года, а
тем временем сотрудничество «старых» буржуазных партий с гитлеровцами распространилось
на ряд других земель.
2 мая
------------------
143 «XI
пленум Исполкома Коминтерна. Стеногр. отчет», т. I. M., 1932, стр. 146.
143 «Frankfurter Zeitung», 22.V 1930.
144 Ibidem.
89
ным его содержанием являлось снижение
налогов на капитал и новое повышение обложения трудящихся. Правительство
добилось чрезвычайных полномочий на снижение поимущественного и других
аналогичных налогов (в бюджете предусматривалось их сокращение на 600 млн.
марок). Этим, как и законом о чрезвычайных полномочиях на повышение ввозных
пошлин, существенно ограничивались права рейхстага.
Но германским империалистам и
этого было недостаточно. Они все чаще прибегали к прямому опустошению казны —
субсидиям. Наибольшей из них, пожалуй, была «Восточная помощь», при посредстве
которой крупные помещики получили в общей сложности не менее 4 млрд. марок 145.
Сотни миллионов марок в виде займов или гарантий (которые в большинстве случаев
никогда не возвращались в государственную казну) предоставлялись отдельным
промышленным фирмам или целым отраслям промышленности, особенно связанным с
военным производством. По некоторым данным, в
Крупный дефицит был уже в
конце мая обнаружен в якобы «отлично сбалансированном» бюджете Брюнинга. В
поисках его покрытия правительство вновь обратилось к пособиям безработных,
которые и без того были невелики 147.
Предусматривалось выдавать
пособия в полном размере лишь в случае года непрерывной работы перед
безработицей (в противном случае полагалось сокращенное — «кризисное»),
исключить из страхования лиц моложе 17 и старше 65 лет, снизить наполовину
пособия для незамужних женщин и т. п. Другими пунктами правительственной
программы экономии было резкое ухудшение страхования по болезни, а также
«чрезвычайная жертва» служащих и чиновников в размере 4% их жалования. Именно
это вызвало осложнения; против такой «жертвы», отстаивая интересы одной из
консервативнейших сил— чиновничества, высказались Национальная партия, а также
участницы правительственной коалиции Хозяйственная и Народная партии (к
последней принадлежал министр финансов). Борьба вокруг бюджета отражала
противоречия между отдельными группировками крупной буржуазии;
------------------------
145 А.
Норден. Уроки германской истории, стр. 79.
146 «Vorwarts», 17.I 1931.
147 Даже
имперское ведомство по страхованию по безработице отмечало: «Если представить
себе среднюю величину пособия, то надо признать, что она навряд ли может быть
уменьшена» («Verhandlungen des Reichstags», Anlagen, Bd. 443, N 2194, S. 40).
90
она привела в середине июня к отставке
Мольденхауэра, который был заменен Дитрихом. На заседаниях правительства вновь
начались разговоры о применении статьи 48. Министр труда Штегервальд, старый
деятель католических профсоюзов, заявил даже, что это было бы наилучшим исходом
148.
В новом проекте бюджета,
представленном рейхстагу в начале июля, нашли воплощение требования Народной
партии, иными словами — влиятельных группировок тяжелой промышленности; налоги
на холостяков и на разлив спиртных напитков, снижение государственных кредитов
ведомству страхования по безработице и т. д. Уже в ходе обсуждения в проект был
включен и пункт о введении поголовного налога, в котором предпочтение крупному
капиталу проявлялось в особенно неприкрытой форме.
Этот проект и возобновившиеся
в связи с ним угрозы разогнать рейхстаг в случае отклонения парламентом бюджета
и ввести его при помощи статьи 48 вызвали резкий протест со стороны
коммунистической партии. «Речь идет теперь уже не о налоговых законах, а о
развитии германской республики в сторону фашистской диктатуры,— заявил в
рейхстаге Т. Нейбауэр.—-В этот час мы говорим массам: ситуация необычайно
серьезна. Для трудящихся масс на карту поставлено самое важное... Надо
организовать борьбу против такой опасности»149. Коммунисты
указывали, что применение статьи 48 для проведения финансовых проектов
правительства является грубым нарушением конституции 150.
Чтобы представить себе, в
каких условиях «президиальное» правительство стремилось навязать рейхстагу волю
реакционных кругов, следует иметь в виду, что в первой половине
--------------
148 DZAP, Reichskanzlei, Kabinettssitzungen, N 750, Bl. 784091.
О том же шла речь в донесении обычно хорошо осведомленного австрийского посла в Берлине Франка в Вену от 6 мая
(Отдел рукописных фондов Института истории
АН СССР, ф. Ж, Д.
149 «Verhandlungen des Reichstags», Bd. 428, S. 6384, 6387.
160 Это признавали и другие сторонники
демократии, и тем более фальсификаторскими выглядят ухищрения В. Конце, даже
спустя три с лишним десятилетия
после тех событий утверждающего, что применение статьи 48 было в
91
И выборы, имевшие место
ранее, и саксонские не оставляли сомнений, что своих успехов нацисты добиваются
почти исключительно за счет «старых» буржуазных партий. Если в Саксонии общее
число полученных СДПГ и КПГ голосов осталось примерно прежним (изменилось лишь
в пользу КПГ соотношение этих голосов), то Национальная партия,
покровительствовавшая нацистам, потеряла около 40% избирателей, Народная —37% и
т. д. И тем не менее руководители этих партий не желали признать очевидную
тенденцию. Весьма недвусмысленно выразила это газета «Франкфуртер цейтунг»,
комментируя выборы в Саксонии: «Если бы в ближайшее время состоялись выборы в
рейхстаг, то исключено, что национал-социалисты утроят количество полученных
голосов, ибо не везде обстановка такова, как в Саксонии»152. Это
самоослепление, как мы увидим, дорого стоило покровителям нацизма (хотя и тогда
не образумило их).
Как раз в те дни, когда в
рейхстаге Брюнинг потрясал красной папкой с заготовленным заранее декретом о
роспуске парламента, срок полномочий которого истекал только в мае
----------------
151 ЦГАОР, ф. 4459, оп. 3, ед. хр.
152 «Frankfurter Zeitung», 24.VI 1930.
153 «Berliner Tageblatt», 11.VII 1930.
92
июль был убит 21 антифашист, тяжело ранено
около 200 человек 154.
В подобной обстановке
правительство неуклонно вело дело к роспуску рейхстага и переходу к
«президиальному» правлению в подлинном его смысле. Обсуждение бюджета к середине
июля вступило в критическую стадию. 14 июля кабинет принял решение о роспуске
рейхстага I и «узаконении» бюджета посредством статьи 48 в случае отклонения
парламентом даже не финансовой программы в целом, а уже ее первого параграфа,
содержавшего принципиальные положения финансовой «реформы» ^7j Деятель партии
Центра и глава правительства земли Вюртемберг Больц писал в те дни из Берлина,
что Брюнинг «полон решимости идти до конца»156. А сам рейхсканцлер,
выступая 15 июля в рейхстаге, провозгласил: «Для германского парламента
наступил решающий час!»157 Все
это еще более, чем в апреле, носило характер обдуманной провокации (это
признают и некоторые буржуазные историки) 158, тем более что
существовали вполне реальные возможности избежать конфликта, возникшие в
результате того, что социал-демократические лидеры стремились достичь
соглашения с правящими кругами об условиях поддержки правительственной
программы. «Социал-демократия,— писал «Форверст» 13 июля,— никогда не отрицала
своей готовности договориться с срединными буржуазными партиями о решении
нынешних трудностей». Выступая в рейхстаге от имени СДПГ, В. Кайль, по его
собственным словам, широко распахнул дверь для соглашения 159.
Чтобы продемонстрировать свою
лояльность, социал-демократы воздержались при голосовании первого параграфа
правительственной программы, чем обеспечили его принятие сначала в бюджетной
комиссии, а затем, 15 июля, и в самом пленуме. Но безоговорочное принятие в тот
момент требований правящих кругов, включая поголовный налог (явная
реакционность которого признавалась даже многими представителями буржуазного
лагеря), означало бы серьезную потерю влияния СДПГ в массах. Принимая программу
Брюнинга, руководство социал-демократии просило поэтому, чтобы правительство
согласилось добавить к своим законопроектам, как писал Зеверинг, «несколько
капель социального елея» 160, что позволило бы лидерам СДПГ как-то
сохранить свое политическое лицо.
--------------------------------------
14 «Rote Fahne», 3.VI1 1930; «Vorwarts», 26.VIII 1930.
1155 DZAP,
Reichskanzlei, Kabinettssitzungen, N 750, Bl. 784385.
156 М
Miller. Eugen Bolz. Staatsmann und Bekenner. Stuttgart, 1951, S. 374.
157 «Verhandlungen
des Reichstags», Bd. 428, S. 6373.
158 K.
D. Bracher. Die Auflosung der Weimarer Republik, S. 345.
159 W. Keil. Erlebnisse eines Sozialdemokraten, Bd. II,
S. 392.
160 C. Severing. Mein Lebensweg, Bd. II. Kоln, 1950, S. 246, 247.
93
Но Брюнинг не пошел им
навстречу. Как показывают протоколы заседаний правительства, Брюнинг, в
согласии почти со всеми членами своего, кабинета, стремился избежать даже
переговоров с руководством СДПГ, ибо это «немедленно положило бы конец
поддержке правительства правыми» 161. Здесь в первую очередь имелись
в виду Гугенберг и его партия, вначале поддерживавшие Брюнинга, но затем
пришедшие к выводу, что политика правительства все же недостаточно
соответствует интересам представляемых ими группировок монополистического
капитала и крупных аграриев. Отказавшись от соглашения с социал-демократией,
Брюнинг не сумел в то же время наладить прочное сотрудничество с Национальной
партией, ибо опасался, что выполнение всех ее требований вызовет взрыв
возмущения в стране.
Точку зрения правящих кругов
весьма точно выразил в частном письме от 10 июля главный редактор органа
монополий «Дейче альгеймайые цейтунг» Ф. Клейн: «Попытка насильственного
изменения положения в конечном счете приведет к гражданской войне и поставит
существование Германии под вопрос» 162. Эта точка зрения и
обусловила, если говорить о расчетах господствующих классов, большую
длительность перехода к диктатуре в Германии. Не одним ударом, как хотелось бы
тем группировкам капитала, которые уже тогда сделали ставку на нацистов, а
постепенно, исподволь— таков был замысел наиболее влиятельных кругов крупной
буржуазии; он определялся учетом условий Германии с ее многомиллионным рабочим
классом.
Сколько-нибудь существенных
шагов по пути «холодной» фашизации пока еще не было сделано: до сих пор
рейхстаг не давал повода к этому. Между тем «сильные мира сего» настаивали на
более решительных действиях. Так, руководитель крупнейшей предпринимательской
организации запада Германии Бранди писал 7 июля Клейну, что правительство
обязано ввести в действие «помимо рейхстага» и «без обсуждения частностей»
необходимые законы в области финансов и социальных расходов 163.
Случай представился 16 июля,
когда депутаты СДПГ проголосовали против второго параграфа правительственной
программы, в результате чего он был отвергнут. Брюнинг сразу же заявил, что
правительство не заинтересовано в дальнейшем обсуждении, а на следующий день
президент обнародовал пер-
-----------------------------------------------------
161 DZAP, Rеichskanzlei, Kabinettssitzungen, N 750, S. 784395.
162 W.
Ruge. Die «Deutsche Allgemeine Zeitung» und die Bruning-Regierung.—
«Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft», 1968, H. 1, S. 29.
163 W. Ruge. Die «Deutsche Allgemeine Zeitung» und die
Bruning-Regierung, S. 28.
94
вый чрезвычайный декрет, «узаконивавший»
имперский бюджет в том виде, как он был внесен в рейхстаг. Брюнинг охарактеризовал
этот шаг правительства, как «средство воспитания в немецком народе
государственного мышления»164. Парламент был поставлен перед
совершившимся фактом. Это явилось безусловным нарушением конституции, ибо
статья 48 вовсе не предусматривала переход в руки президента законодательных
прерогатив в области финансов, а тем более введение в действие законопроектов,
отвергнутых парламентом.
«Роте фане» оценила
чрезвычайный декрет как заметную веху на пути фашизации капиталистической
государственной власти165. Коммунисты призывали массы к величайшей
бдительности, к решительному отпору поползновениям реакции.
На словах весьма
категорически протестовала и социал-демократическая пресса. «Кто не хочет
отменить этот чрезвычайный декрет, тот одобряет его содержание»,— провозглашал
«Форвертс» 166. Лидеры СДПГ усиленно старались хотя бы частично
восстановить свой авторитет в массах, основательно подорванный за годы
пребывания кабинета Мюллера у власти. Эти соображения побудили
социал-демократическую фракцию рейхстага проголосовать 18 июля за отмену
чрезвычайного декрета. Вслед за принятием этого предложения Брюнинг огласил
декрет Гинденбурга о роспуске рейхстага. Угроза, высказанная правительством
чуть ли не в первый день его существования, была приведена в действие.
Это был акт,
имевший чрезвычайно пагубные последствия, и в первую очередь усиление фашизма.
Совершенно несостоятельны попытки некоторых буржуазных историков изобразить
дело так, будто разгон рейхстага был своего рода «импровизацией», а не заранее
намеченной целью правящих кругов167. Приведенные факты
свидетельствуют, что правящие круги стремились к отказу от парламентаризма и
этому была с самого начала подчинена политика правительства Брюнинга. Оно не
могло сомневаться, что выборы принесут резкое усиление открыто фашистских сил,
и распуская рейхстаг, объективно удовлетворяло требования нацистов,
торопившихся использовать благоприятную для них конъюнктуру и значительно
возросшую финансовую поддержку монополий для внезапного рывка к власти 168.
------------------------
154 «Schulthess' Europaischer Geschichtskalender», 1930, S. 185.
165 «Rote Fahne», 18.VII 1930.
166 «Vorwarts», 18.VII 1930.
167 W. Besson. Wurttemberg und die deutsche Staatskrise
1928—1933. Stuttgart, 1959, S. 160.
168 Об этом пишут и буржуазные историки: К.
D. Bracher. Die Auflosung der Weimarer Republik, S. 347; W. Tormin. Geschichte
der deutschen Parteien seit 1848. Stuttgart, 1966, S. 187. А из недавно опубликованного поздней-
95
Новые выборы были назначены
на 14 сентября
Следует ли удивляться тому,
что крупные промышленники в своей массе были довольны? Союз германской
промышленности оценил «быстроту, настойчивость и трезвость, с какими
действовало новое правительство... Оно пыталось провести в жизнь некоторые
существенные требования, выдвинутые Союзом уже в 1928—1929 гг.» 170
Предвыборная кампания и фашизация
Кампания по выборам в
рейхстаг проходила под знаком невиданной' активности гитлеровской партии,
впервые в столь крупных масштабах применившей методы массовой «обработки»
населения. Рекордное число митингов и собраний, броские и впечатляющие в своей
примитивности плакаты, гибкость и
------------------------------
шего письма Брюнинга (
169 «4 Monate Bruning-Regierung. Handbuch der
Kommunistischen Reichstagsfraktion», S. 26.
170 «Der Weg zum industriellen Spitzenverband». Darmstadt,
1956, S. 177. Статс-секретарь рейхсканцелярии Пюндер с гордостью записал в
дневник, что он сумел втиснуть в один декрет, казалось бы, несоединимые сюжеты;
в дальнейшем это сильно затруднило попытку отмены его рейхстагом (Н. Punder.
Politik in der Reichskanzlei, S. 57).
96
оперативность в пропаганде, обращенной к
различным общественным слоям и прослойкам, в сочетании с террором оказывали
воздействие на очень многих избирателей, особенно из числа молодежи, изверившихся
во всем.
Выбитые из привычной колеи,
лишенные какой-либо опоры люди мучительно искали выхода из создавшегося тупика.
Путь революционной борьбы, на который звала коммунистическая партия, не
воспринимался большинством представителей средних слоев, а также многими
рабочими, находившимися под влиянием руководства социал-демократической партии
и реформистских профсоюзов, фашисты же объясняли все беды предельно просто —
«перенаселенностью» страны, мнимым недостатком «жизненного пространства». Они
умело дифференцировали свой подход к различным общественным классам и группам,
ловко учитывая наболевшие нужды каждой из них171.
Гитлеровцы не скупились на
фантастические обещания всяческих благ в случае своего прихода к власти, требуя
взамен безоговорочной поддержки. Рабочим они сулили ликвидировать безработицу,
установить «справедливую» зарплату; крестьянам—снизить проценты по ипотечным
долгам, от которых задыхались миллионы тружеников, прекратить продажу земли с
торгов; мелким торговцам и ремесленникам— покончить с «процентным рабством»,
закрыть универмаги (которые, как они утверждали, являются цитаделью «еврейского
капитала», жестоко эксплуатирующего «арийских тружеников»), снизить цены на
сырьем. Все обещания, которые Гитлер и его сподручные раздавали направо и налево,
вопиюще противоречили друг другу; но это увидел бы лишь тот, кто стал бы
сравнивать и анализировать заявления фашистских главарей. Сотни же тысяч,
миллионы отчаявшихся людей — большей частью представителей мелкой буржуазии и
крестьян — попадали в сети фашистской демагогии.
Успеху фашистов способствовала,
вея политика правящих кругов. Если взять, например, крестьянство, то в объятия
гитлеровцев его гнало в первую очередь осуществление программы Шиле,
продиктованной крупными аграриями. Вот что писал, по этому поводу автор письма,
опубликованного органом Демократической партии «Франкфуртер цейтунг»: «Кому
выгодны в политическом отношении ныне действующие аграрные законы? На мой
взгляд, только и исключительно национал-социалистам. Они явятся той партией,
которая привлечет в свой лагерь обманутое аграрными законами крестьянство».
Автор пророчески предупреждал, что «в следующий рейхстаг национал-социалисты
придут в большом количестве» 172. Те же
--------------------------------
171 Г
Димитров. Избр. произв., т. I. M, 1957, стр. 379—380.
172 «Frankfurter
Zeitung», 2.VII 1930.
97
последствия имела политика правительства
по отношению к безработным; одним из ее результатов был переход на позиции
нацизма неустойчивых элементов, потерявших надежду вернуться к труду.
На пользу фашизму шла и
шовинистическая, реваншистская шумиха, которую систематически раздували те, кто
стоял у власти. Особенный размах она приобрела в связи с эвакуацией иностранных
войск из Рейнской области, закончившейся 30 июня
Вывод войск из Рейнской
области ознаменовался еще одним событием, свидетельствовавшим об усилении
реакции,— отменой запрета «Стального шлема» в западных областях Германии,
наложенного прусским правительством в связи с недовольством Франции открытой
военной подготовкой, которую эта организация вела в указанных областях. Запрет
был отменен по настоянию почетного члена «Стального шлема» Гинденбурга,
пригрозившего в противном случае отказом от участия в празднествах по случаю
очищения Рейнской области 173. Годовщина принятия Веймарской
конституции 11 августа была использована для провозглашения реваншистских
лозунгов. Тон в этом отношении задал наиболее близкий к рейхсканцлеру член
имперского правительства Тревиранус. В произнесенной им речи впервые столь
категорично было заявлено, что Германия не отказалась и не собирается
отказываться от земель, возвращенных Польше. Тревиранус говорил о территориях,
которые «в настоящее время еще отрезаны от нас, но которые в свое время мы
должны будем вновь приобрести» 174. Такого рода выступления (а они
являлись отражением глубокой враждебности господствующих классов Германии к ее
восточным соседям, прежде всего к Польше) смыкались с истерическими призывами к
реваншу, исходившими от гитлеровцев и от деятелей Национальной партии, и
укрепляли авторитет последних 175.
-----------------
173 Этот
факт наглядно опровергает утверждения приверженцев Гинденбурга о том, будто он
в период канцлерства Брюнинга «ушел на второй план» и не несет ответственности
за политику правительства (A. Dorpalen. Hindenburg and the Weimar
Republic. Princeton, 1964, p. 182).
174 «Vossische Zeitung», 12.VIH 1930.
175 Архивные материалы из фондов министерства по делам
оккупированных территорий, возглавляемого Тревиранусом, показывают, что задолго
до
98
Но было бы ошибкой
представлять себе отношения господствующих классов с гитлеровской партией на
данном этапе как уже более или менее налаженные и устойчивые. Для
многочисленных представителей монополистического капитала и юнкерства фашисты
пока были terra incognita, а их методы еще отталкивали «респектабельных»
буржуа, которым вообще-то импонировали цели нацистской клики, прежде всего ее
яростный реваншизм и стремление обесправить рабочий класс.
Как уже отмечалось,
конкретная нацистская программа, их пропагандистские лозунги, продиктованные
потребностями борьбы за массовую базу, не на шутку беспокоили тех воротил
капитала, кто принимал нацистскую демагогию за чистую монету. Имеется немало
высказываний буржуазной прессы и некоторых крупных промышленников и аграриев в
этом духе. Вот как выражала свое мнение «Дейче альгемайне цейтунг», в целом
благосклонно относившаяся к нацистам, но в то же время еще не настаивавшая на
передаче им власти: «Г-н Гитлер играет на чувствительном пропагандистском
барабане. Но звук, издаваемый этим барабаном, не чист» 176.
Другая правая газета, орган
Пангермапского союза, публикуя прогитлеровскую статью Ольденбурга-Янушау, в том
же номере печатала высказывания другого агрария — Вальдерзее, который видел в
нацистской программе «чудовищные опасности, даже экспроприацию крупной
земельной собственности» 177.
Все эти страхи были вызваны
отдельными пунктами программы, принятой гитлеровцами в
Несколько иной, хотя и весьма
сходный характер носила аргументация одного из основных попечителей
гитлеровской партии, Кирдорфа, у которого незадолго до выборов в рейхстаг
произошла размолвка с нацистами. Кирдорф публично заявил, что «вопреки
верховному вождю партии другие национал-социалистские агитаторы поддерживали
забастовочное движение в Рурской области»178. На выборах Кирдорф
поддерживал Национальную партию 179. Эта размолвка имела временный
характер, и вскоре Кирдорф «вернулся» к нацистам; после же их
------
дня конституции готовились различные
мероприятия сугубо реваншистского характера, в которых должны были участвовать
даже дети. Реваншистским организациям выплачивались крупные средства (DZAP, Reichsministerium
fur besetzte Gebiete, N 1434, Bl. 23, 40; N1451, Bl. 215).
176 «Deutsche Allgemeine Zeitung», I0.VIII 1930.
177 «Kreuzzeitung», 30.VIII 1930.
178 «Der Tag», 24.VIII 1930.
179 K.
Gossweiler. Die Rolle des Monopolkapitals bei der Herbeifuhrung der
Rohm-Affare. Berlin, 1963, Anlagen, S. 20—21 (диссертация, любезно
предоставленная автором).
99
прихода к власти он с полным правом считал
себя ветераном нацизма 180.
Приведенные высказывания и
эпизод с Кирдорфом (вероятно, он не был единичным) весьма симптоматичны. Они
отражают непонимание некоторыми представителями господствующих классов того
обстоятельства, что, не прибегая к изощренной демагогии — не только
национальной, но и социальной, не совершая широких и зачастую неожиданных
маневров, гитлеровская клика не имела серьезных шансов выполнить поставленную
перед ней цель —создать необходимую буржуазии новую массовую базу.
Правда, в то же время в
буржуазной прессе мелькали высказывания, свидетельствовавшие о правильном
понимании сущности гитлеровских воплей о «процентном рабстве» и «хищническом
капитале». Об этом 24 июня
Не требуется особых
доказательств того, что ни ранее, ни в данный момент нацистская партия не была
рабочей партией. Важно другое: после того, как гитлеровцы сблизились с
традиционным оплотом реакции — Национальной партией Гугенберга, не только в правобуржуазной печати, но и в самой
нацистской среде, весьма разношерстной по своему составу и происхождению, также
стало распространяться мнение, что партия «кардинально меняет свой характер».
Среди рядовых гитлеровцев, особенно в штурмовых отрядах, имелась немалая
прослойка людей, вполне всерьез принимавших нацистскую демагогию. Все новые
факты, обнаруживавшие связи гитлеровской верхушки с крупным капиталом, с самыми
консервативными политическими силами, подогревали брожение, которое нередко
старались использовать в личных целях отдельные нацистские функционеры.
Не случайно это недовольство
усилилось летом
-----------------------------
180 W.
Ulbricht. Der feschistische deutsche Imperialismus. Berlin, 1952, S.
1516.
181 «Kreuzzeitung», 14.IX 1930.
100
идеологию, дикую вражду к организованному
рабочему движению с борьбой против засилья крупного капитала 182.
Этот разрыв произошел в мае
Толчком к открытому
проявлению недовольства в гитлеровской партии послужило решение руководства о
том, что представители командования штурмовых отрядов не будут выдвинуты
кандидатами в рейхстаг (как видно из документов, для них проездные билеты и
особенно материальные средства, которыми государство обеспечивало депутатов,
были весьма заманчивы185). Во главе недовольных оказался начальник
штаба штурмовых отрядов Северо-Западной Германии Штеннес. Но в то время, как
его интересы сосредоточивались на бесплатном проездном билете и дополнительных
средствах, какими распо-
-------------
182 О. Штрассер, несмотря на разрыв с
Гитлером, был и остался по своим взглядам фашистом. В том же
183 О. Strasser. Hitler und I. Boston, 1940, p. 112; K.
Heiden. Adolf Hitler. Zurich, 1936, S. 253, 273—274. Еще более откровенно
Гитлер высказался в беседах с гласным редактором газеты Народной партии
«Leipziger Neueste Nachrichten» Г. Брейтингом {май — июнь
184 О. Strasser. Mein Karnpf.— «Der
Stern», 1969, N 17, S. 94.
185: «Ausgewahlte Dokumente zur Geschichte des
Nationalsozialismus 1933— 1945», Bd. II. Bielefeld, 1961.
101
лагали депутаты рейхстага, многие рядовые
штурмовики интересовались иными вещами. В конце августа, т. е. в самый разгар
предвыборной кампании, в берлинской организации нацистской партии развернулись
сенсационные события.
Сначала появились листовки, в
которых, в частности, говорилось: «Мы, пролетарские элементы движения,
чрезвычайно довольны! Мы не останавливаемся ни перед чем, чтобы
благоденствовали наши дорогие «вожди», доход которых составляет от 2 до 5 тыс.
марок в месяц. Мы были очень рады, узнав, что Гитлер приобрел новую автомашину
марки «Мерседес» за 40 тыс. марок» 186.
Штурмовики, которым теперь
редко перепадали даже прежние крохи, ибо все средства расходовались на ведение
предвыборной кампании, потребовали платы за охрану собраний, а когда это
требование не было удовлетворено, отказались охранять нацистский митинг в
берлинском «Спортпаласте», где должен был выступать Геббельс, и в ходе митинга
покинули зал. Взамен Геббельс вызвал отряды СС. Эсэсовские посты были
выставлены также у помещения окружной организации гитлеровской партии (с этих
пор и началось возвышение СС, постепенно оттеснивших штурмовые отряды на второй
план). В ночь па 30 августа
Но развитие конфликта в тот
момент остановилось. Гитлеру удалось нейтрализовать Штеннеса обещаниями
материальной помощи, а без руководства движение оппозиционных элементов
заглохло. Правда, компромисс оказался лишь временной отсрочкой. В начале апреля
Накануне выборов в рейхстаг
бунт штурмовиков в Берлине был весьма некстати для гитлеровской клики, и он
безусловно сказался на числе голосов, полученных гитлеровцами в столи-
---------------------------
186 H, Hohne. Der Orden unter dem Totenkopf. Die
Geschichte der SS Hamburg, 1966,
S. 64.
102
цe Но значительного отзвука, который
оказал бы более общее влияние, этот бунт не имел. Среди гитлеровской верхушки
он окончательно укрепил мнение, что следует еще более маскировать свои связи с
крупным капиталом и свою зависимость от него, ни в коем случае не отказываться
от социальной демагогии, делая ее еще более изощренной и придавая ей все
большую внешнюю достоверность. А главным орудием против разоблачений подлинного
существа нацизма, которые в немалом количестве содержались в выступлениях
деятелей КПГ и ее печати, в изданиях левобуржуазных демократов, была наглая,
беззастенчивая ложь, применявшаяся по известному рецепту Гитлера: «Чем более
чудовищна ложь, тем более правдоподобной она кажется».
Усиление открыто фашистских
сил оказывало растущее влияние на «старые» буржуазные партии, которые видели,
что их авторитет быстро падает, и стремились восстановить его соревнованием с
нацистами в антидемократизме и реваншизме. Одним из наиболее наглядных
проявлений этого была эволюция партии, стоявшей даже не на правом, а на левом
фланге буржуазной политической системы,—Демократической. Вскоре после роспуска
рейхстага ее руководители вступили в переговоры о слиянии с одной из
организаций сугубо националистического типа — «Младогерманским орденом». В
результате была создана новая партия, которая отказалась от прежнего названия,
заменив его новым — Государственная. Этот факт имел, безусловно, символический
характер. Комментируя его, «Роте фане» 29 июля
Не успело состояться
объединение, как глава «Младогерманского ордена» Мараун опубликовал манифест,
адресованный своим сторонникам, в котором разглагольствовал о необходимости
дальнейшего «сдвига вправо», очищения новой партии от «пацифистских мечтателей»
и т. п. 187 Бывшие демократы были несколько шокированы солдатской
откровенностью Марауна, но никак не реагировали. Среди них самих приобретали
все большее влияние те деятели, которые становились приверженцами диктатуры. Одним
из них был прусский министр финансов Гепкер-Ашоф, который на заседании
правления партии {это было несколько позднее, в
----------
187 «Vorwarts»,
31.VI1 1930.
103
ное руководство,
необходимый авторитет правительства, то должны примириться с диктатурой» 188.
Государственная
партия активно участвовала в кампании буржуазных идеологов и организаций в
пользу пересмотра пропорционального избирательного права, согласно которому
число мест той или иной партии в рейхстаге прямо соответствовало числу
собранных ею голосов. Реакционеры всех мастей призывали ,к замене его
голосованием по округам, при котором большое количество голосов прогрессивных
организаций, как правило, пропадает. Тогдашний председатель партии Кох-Везер
еще до событий лета
В подобных
нападках участвовали и буржуазные ученые, всерьез считавшие себя либералами.
Когда примыкавшая к Государственной. партии газета «Берлинер тагеблатт» подняла
дискуссию о возрастном цензе, вступительную статью к ней написал известный
историк Ф. Валентин, безоговорочно высказавшийся за повышение этого ценза.
«Исходя из типа нашего населения,— писал он,— минимальный возраст для участия в
выборах слишком низок. Для нас было бы целесообразнее установить его на уровне
21 года, а возможно даже 23 лет»190. Эти рекомендации диктовались
стремлением отстранить от участия в решении политических проблем молодежь, нередко
проявлявшую себя как революционная сила. Еще более категорически настаивали на
пересмотре избирательного права (и конституции вообще) другие буржуазные
партии, стоявшие правее Государственной.
В Саарской
области организации Государственной и Народной партий слились; это произошло в
результате стараний лидера Народной партии в Сааре крупного промышленника
Рехлинга, который прилагал усилия, чтобы добиться такого же результата в
общегерманском масштабе 191. Но соответствующие шаги не увенчались
успехом, ибо Народная партия сближалась с открытыми фашистами. Та же участь
постиг-
-------------------------------------------
188 «Das Ende der
Parteien 1933», S. 40. А в
189 ЦГАОР, ф. 4459, on. 2, ед. хр. 416.
190 «Berliner Tageblatt», 22.11 1931.
191 H. Bertsch. Die FDP und der deutsche Liberalismus (1789—1963). Berlin, 1965, S.
142.
104
ла попытки если
не объединить ряд буржуазных партий в одну сильную организацию, которая
представляла бы интересы He-фашистских группировок буржуазии, то хотя бы
координировать их политический курс. В архиве лидера Народно-консервативной
партии Вестарпа обнаружен весьма характерный документ — записка о его беседах
летом
Государственную
партию, несмотря на ее явное поправение, инициаторы «сплочения» сбрасывали со
счета. Партия Центра, являвшаяся в то время главной политической силой
буржуазии, не была заинтересована в таком блоке, где ее руководящая роль
оказалась бы в значительной мере утраченной. Оставались по существу Народная,
Народно-консервативная, Хозяйственная партии и ряд еще менее крупных
организаций. Можно полагать, что если бы им удалось объединиться, то потери,
понесенные ими на выборах, не были бы столь катастрофическими,, какими они
оказались. Но добиться этого не позволили разногласия. Все дело свелось лишь к
совместному обращению к избирателям, которое опубликовали Народная и
Хозяйственная партии. И эти, и другие, неприсоединившиеся к ним, традиционные
буржуазные партии быстро шли навстречу своей гибели.
КПГ в борьбе
против фашистской угрозы и реакционного правительства
Мы уже в
предшествующих разделах, правда, только попутно, касались деятельности
Коммунистической партии Германии, ее беззаветной борьбы за интересы трудящихся
масс. Необходимо рассмотреть эту борьбу обстоятельно, ибо иначе нельзя понять
существо классовых боев в Германии 1929—1933 гг.
Следует, прежде
всего, сказать, что КПГ в эти годы первой, причем очень рано, разглядела
появление серьезной фашистской опасности в лице гитлеровской партии.
Исследования, осуществленные учеными ГДР на основании важных архивных
документов, свидетельствуют о том, что уже в октябре
Э. Тельман
подчеркнул здесь, что крупные капиталисты осуществляют реорганизацию
гитлеровской партии, и охарактери-
--------------------------------------
192 W. Jonas. Die Volkskonservativen
1928—1933, S. 84.
105
зовал ее как орудие монополий, отметив, что массовую
базу партии составляют мелкобуржуазные элементы. Председатель КПГ поставил
вопрос о необходимости сделать «крутой поворот к борьбе против фашизма». Уже на
этом раннем этапе наступления фашизма Э. Тельман указал, что компартия
недооценила темп развития нацистского движения. «Если национал-социалисты и те,
кто выступает заодно с ними,—заявил Э. Тельман,— могут зафиксировать
определенный выигрыш в темпе и расширение своего политического базиса, то это —
политический промах нашей собственной партии» 193. Он особо отметил
необходимость неустанного разоблачения демагогических лозунгов, при помощи
которых гитлеровцы вербовали сторонников.
Тельман предупредил, что на предстоявших выборах
нацисты добьются успехов, и это, как мы знаем, подтвердилось. Из циркулярного
письма секретариата ЦК КПГ, датированного началом декабря
Как отмечалось в циркулярном письме от 2 ноября, «в
центре всей работы партии в ближайшие месяцы будет находиться борьба против
плана Юнга»195. КПГ придавала этому вопросу такое значение потому,
что он был использован реакционными силами для разжигания национализма и
шовинизма, чтобы отвести законное возмущение народных масс от господствующих
классов. Естественно, что коммунисты резко отрицательно относились к затеянному
Гитлером, Гугенбергом и их единомышленниками плебисциту, призывая трудящихся не
принимать в нем участия. КПГ развернула кампанию протеста против этого лживого
плебисцита196. Вместе с тем коммунистическая партия раскрывала перед
трудящимися последствия принятия «плана Юнга», возложившего на Германию
обязательство платить репарации в течение чуть ли не шести
--------------------------------
193 «Geschichte der
deutschen Arbeiterbewegung», Bd. 4, S. 234; K. Mammach. Bemerkungen uber
die Wende der KPD zum Kampf gegen den Faschismus.— «Beitrage zur Geschichte der
deutschen Arbeiterbewegung», 1963, N 4, S. 664.
194 Фонды ГМР, 18243/36 Д445—11 А, стр. 3.
195 Фонды
ГМР, 588/99 Д445— ПА.
196 ЦГАОР, ф.
567, on. 1, ед. хр. 1281 а, л. 12.
106
десятилетий. В своей пропаганде партия
противопоставляла политике правящих кругов Германии вдохновляющий пример
русского парода, революционным путем покончившего с иностранными долгами
царского режима. «Советский Союз,—подчеркивал Э. Тельман, выступая в рейхстаге
11 февраля
Мы уже
говорили о том, что первый опыт фашистского хозяйничанья в Тюрингии (как
позднее и в других землях) не вызвал со стороны правящих кругов сколько-нибудь
эффективных мер противодействия. Только коммунистическая партия объявила
беспощадную борьбу союзнику «традиционных» буржуазных партий гитлеровцу Фрику,
пытавшемуся превратить Тюрингию в прообраз «Третьей империи». Отмечая
совершенно недостаточный характер «санкций», примененных против Фрика
правительством Мюллера, А. Норден писал в марте
КПГ различала фашистскую угрозу, исходившую от
гитлеровской партии и ее прямых союзников — ставленников наиболее агрессивных
группировок монополистического капитала, и действия тех его группировок,
которые стояли в то время у власти и держали курс на ликвидацию буржуазной
демократии «холодным» путем, К сожалению, как мы увидим, не всегда в должной
мере учитывались противоречия и борьба между этими двумя направлениями. Тем не
менее уже в июле
---------------------
197 Е. Thalmann. Reden und Aufsatze
zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Bd. II.
198 Фонды ГМР, 30225/713 Б445-11Щ, стр. 21.
199 «Internationale Pressekorrespondenz»,
1930, N 27, S. 653.
107
![]() но200.
Дальнейшие события полностью подтвердили данный вывод.
но200.
Дальнейшие события полностью подтвердили данный вывод.
Но в сложившихся условиях весьма отрицательно
сказывались некоторые положения, которых продолжала придерживаться партия.
Такова была, например, оценка социал-демократии. Так, резолюция ЦК КПГ,
принятая в апреле
Преодоление ошибок в данном вопросе крайне осложнялось
яростным антикоммунизмом многих — и не только высших — функционеров СДПГ.
«Грубое подавление рабочих, посредством забастовок и демонстраций отстаивавших
свои законные
---------------------------------------
200 Е, Thalmann. Reden und Aufsatze..., Bd. II,
S. 462.
201 «Internationale
Pressekorrespondenz», 1930, N 36, S. 825-
202 «Geschichte der deutschen
Arbeiterbewegung», Bd. 4, S. 239—240.
203 «Rote Fahne», 6.IV 1930.
108
права, полицией, которой весьма часто командовали
социал-демократы в роли полицей-президентов, порождало ненависть, которая порой
ослепляла»204. Так, известно, что целая организация КПГ —
восточно-прусская — временно стала на точку зрения Меркера 205.
Не меньший вред, чем теория о «маленьких Цергибелях»,
принес лозунг, брошенный наиболее упорным носителем сектантских взглядов в
руководстве КПГ Г. Нейманом. Этот лозунг гласил: «Бейте нацистов, где бы вы их
ни встретили!» Он сводил борьбу против фашистской опасности к потасовкам даже в
тех случаях, где их можно было избежать, и совершенно исключал идеологическую
борьбу, полемику с гитлеровцами и другими представителями фашизма.
Мы уже приводили слова Э. Тельмана о необходимости
развернуть разоблачение нацистской идеологии, произнесенные на октябрьском
пленуме ЦК КПГ. Тогда еще не удалось добиться снятия архивредного лозунга
Неймана. Это было сделано позднее, летом
Упомянутое постановление Политбюро ЦК КПГ — один из
важнейших и интереснейших документов в истории борьбы германских трудящихся
против наступления фашизма. В противовес попыткам социал-демократических
теоретиков преуменьшить развитие фашистской опасности постановление реалисти-
---------------------------
204 «Geschichte der
deutschen Arbeiterbewegung», Bd. 4, S. 240.
205 K. Mammoch. Bemerkungen ubed
die Wende der KPD..., S. 670.
206 «XI пленум Исполкома Коминтерна. Стеногр. отчет», т.
I, стр. 149. Но деятельность Неймана продолжалась, и его влияние в ближайшее
время отнюдь не уменьшилось. Выступая в июне
207 «Rote Fahne», 14.VI 1930.
109
чески оценивало эту опасность и, главное, показывало
конкретный путь ее преодоления: это должна быть «массовая политическая борьба
на максимально широкой основе». Партия, подчеркивалось далее, видит важнейшее
средство для достижения цели в «установлении единого пролетарского фронта
снизу, сплочении всего рабочего класса в борьбе против буржуазии и ее агентов».
При этом ЦК КПГ отмечал, что «мобилизация широких масс против фашизма не должна
ограничиваться индустриальным пролетариатом. Партия обязана, в частности,
повести на борьбу против фашизма и его эксплуататорской,
крупнокапиталистической политики млссы сельскохозяйственных рабочих,
бедствующую мелкую буржуазию городов, служащих и чиновников, обнищавших мелких
торговцев, мелких хозяев, ремесленников, пауперизованных мелких крестьян во
всех частях страны». Это были очень важные положения; но по разным причинам
Коммунистической партии не удалось реализовать их в сколько-нибудь значительном
объеме.
Большое значение в постановлении Политбюро ЦК КПГ от 4
июня
Подчеркивая важность развертывания идеологической борьбы
против гитлеризма, постановление в то же время намечало необходимые средства
для оказания действенного отпора фашистскому террору, прежде всего — создание
на всех предприятиях отрядов самообороны, основанных на принципе единства
действий независимо от партийной принадлежности. Особенно важно это было для
Тюрингии, а также Саксонии, где отмечалось резкое усиление фашистов. «Лозунгом
всего рабочего класса должно стать: ни одного предприятия без отряда
самообороны»,— говорилось в постановлении208.
Своевременность решения Политбюро ЦК КПГ еще более
подчеркнули состоявшиеся вскоре выборы в саксонский ландтаг, принесшие, как
отмечалось выше, крупную победу нацистам. О естественной тревоге, порожденной
этим, и уроках, извлеченных коммунистами Саксонии, свидетельствует напечатанная
в органе Коммунистического Интернационала статья Г. Якобса, присланная из
Лейпцига. Он подчеркнул прежде всего, что упадок Народной партии, являвшейся
основной партией моно-
------------------------------------------
208 «Zur Geschichte der Kommunistischen
Partei Deutschlands. Eine Auswahl von Materialen und Dokumenten aus den Jahren
1914—1946». Berlin, 1954, S.274-279.
110
полий в Саксонии, и одновременный резкий подъем
нацизма говорят о решительном намерении буржуазии ускорить фашизацию.
«Национал-социализм,— писал автор,— превратился в пролетарском крае — Саксонии,
в массовое движение, он превзошел по численности коммунистическую партию...
Необходимо сказать откровенно: мы в течение долгого времени недооценивали
опасность национал-социалистского движения. Теперь еще не поздно наверстать
упущенное, освободиться от слабостей и создать под нашим руководством подлинный
пролетарский единый фронт против фашизма, фронт всех рабочих без различия
партий»209.
Но КПГ не могла, естественно, ограничиваться этой
стороной дела. Не менее важной задачей было поднять массовую борьбу против
правительства Брюнинга (об оценке которого коммунистами уже было сказано выше).
В рейхстаге и ландтагах, на массовых митингах и демонстрациях, подвергаясь
ожесточенным преследованиям со стороны властей, коммунисты разоблачали перед
лицом трудящихся существо антинародного курса правящих кругов, звали массы к
решительному отпору. Коммунистическая фракция внесла в рейхстаг законопроект об
обложении миллионеров, принятие которого принесло бы огромное облегчение
народу. Только обложение 7580 человек, состояние которых превышало 500 тыс.
марок, 10%-ным налогом принесло бы 900 млн. марок. Кроме того, КПГ предлагала
ограничить колоссальные доходы членов наблюдательных советов акционерных
обществ и т. п. Однако проект компартии был отвергнут не только буржуазными
партиями, но и представителями социал-демократии 210.
Большие усилия прилагала партия, чтобы поднять массы
на забастовочные бои, ибо только в борьбе за насущные требования можно было
закалить волю трудящихся к отпору антидемократическим планам правящих кругов.
Задача эта по мере углубления кризиса значительно усложнялась, так как лидеры
СДПГ и реформистских профсоюзов, державшие под своим влиянием значительную
часть рабочих, запугивали их штрейкбрехерством со стороны столь возросшего
числа безработных. Но работа, проводимая компартией, не оставалась
безрезультатной.
Это подтвердило крупное выступление рабочих
медеплавильных предприятий Мансфельда в июне
------------------------------------
209 «Internationale Pressekorrespondenz», 1930, N 53, S.
1169.
210 «4 Monate
Bruning-Regierung...», S. 34—35.
211 «Geschichte der deutschen
Arbeiterbewegung». Bd. 4, S. 246--248.
111
когда они начали забастовку. Их чувства коротко
сформулировала одна работница из Эйслебена: «Если Мансфельдской компании
удастся раздавить нас, тогда грабительский поход на рабочий класс развернется
вовсю».
1 июня рано утром все плавильные печи заняли отряды
пролетарской самообороны. Были выставлены стачечные пикеты. Реформистские
лидеры, пытавшиеся вначале уговорить рабочих согласиться на 10%-пое понижение
зарплаты, затем примкнули к забастовке, но она и после этого проходила под
сильным влиянием коммунистов212. Попытки администрации
воспользоваться услугами штрейкбрехеров, которых привозили из других мест на
грузовиках, не имели успеха. Женщины бросались на мостовую, не давая проехать
машинам, а тех штрейкбрехеров, которые как-то пробирались на заводы, поджидали
и избивали 213.
Стачка была сорвана профсоюзным руководством,
согласившимся на «компромисс», невыгодный для рабочих. Но в мансфельдской
забастовке революционные рабочие Германии видели не поражение, а пример того,
как следует отвечать на наглые требования предпринимателей, выступавших в
полном единодушии с правительством.
Роспуск рейхстага открыл новую страницу в истории
классовой борьбы в Германии. Коммунисты— единственные среди партий,
представленных в- парламенте,— принципиально и последовательно отстаивали
интересы миллионов немецких трудящихся, разоблачая проекты правительства — эту,
по словам Э. Тельмана, «отчаянную программу разбойничьего нападения на
собственный народ». Правительство, писал председатель КПГ на следующей день
после разгона рейхстага, «холодным путем прокладывает путь фашистскому
государственному перевороту»214. С большим подъемом партия вступила
в предвыборную борьбу; она привлекала на свою сторону все новых сторонников.
Предвыборную агитацию КПГ сочетала с активной антивоенной работой в массах,
раскрывая замыслы германского империализма, направленные на подготовку реванша,
на участие в антисоветском сговоре западных держав 215.
Центральное место в деятельности КПГ в это время
заняла программа национального и социального освобождения немецкого народа,
опубликованная в августе
--------------------------------------------------------------
212 W. Imig. Streik bei Mansfeld 1930.
Berlin, 1958.
213 «Пятый конгресс Профинтерна. 15—30 августа
214 «RoteFahne», 19.VI1
1930.
215 К. Mammach. Der Kampf der deutschen
Arbeiterklasse im August 1930 gegen Imperialismus, Militarismus und Krieg. Berlin, 1956.
112
острие было направлено против бессовестной демагогии
гитлеровцев. «Фашисты (национал-социалисты) утверждают,— говорилось в программе,—что
они являются «национальной», «социалистической» и «рабочей» партией. Мы
отвечаем на это, что они — антинародная, антирабочая, антисоциалистическая
партия, партия крайней реакции, эксплуатации и закабаления трудящихся». На ряде
примеров программа показывала трудящимся Германии разбойничью сущность фашизма,
разоблачала его как партию войны, колониальных захватов и предательства
коренных национальных интересов немецкого народа.
В программе подробно излагались важнейшие мероприятий,
которые стали бы непосредственной целью борьбы трудящихся масс за улучшение
своего положения: обобществление .крупных предприятий и банков, раздел крупных
поместий, введение всеобъемлющего социального страхования, повышение зарплаты
рабочих и т. п. Важное место занимала характеристика курса партии в области
внешней политики. В программе подчеркивалось, что спорные вопросы, касающиеся
границ, репараций, иностранной задолженности, должны решаться исключительно
мирным путем, без войн и подавления других народов216. В программе национального
и социального освобождения КПГ впервые была систематически изложена позиция
немецкого революционного движения по вопросу о нации и обоснована необходимость
в интересах нации лишить власти империализм и милитаризм217.
В заключение следует отметить, что деятельность КПГ
проходила в обстановке непрекращающихся репрессий, провокаций, клеветнических
кампаний и т. п. Приведем лишь два примера. Первый касается избрания в январе
------------------------------------------
216 «Zur Geschichte der Kommunistischen
Partei Deutschlands», S. 275—281. Вместе
с тем следует отметить, что программа была несвободна от ошибок. Об этом В. Пик
писал следующее: «Ей был присущ тот недостаток, что она не выдвигала в должной
степени на передний план насущные вопросы защиты политических прав народных
масс... Кроме того, огонь удара был направлен равномерно против нацистов и
против социал-демократии, хотя фашистская опасность была уже чрезвычайно остра»
(W. Pteck. Reden und Aufsatze. Auswahl aus den Jahren 1908—1950, Bd. 1.
217 «Geschichie der deutschen Arbeiterbewegung»,
Bd. 4, S. 259.
113
был утвержден в должности прусским министром
внутренних дел Гржезинским (СДПГ). При этом было заявлено, что если Вебер будет
избран вторично, то- министр назначит другого обер-бургомистра218.
Второй пример еще более разителен. Нами обнаружен
документ, касающийся клеветнической кампании против КПГ (она «обвинялась» в
разработке «путчистских планов»). Первый «материал» на эту тему был напечатан в
газете «Гамбургер анцайгер» от 28 декабря
Между тем 31 декабря
Здесь комментарии излишни. Можно только добавить, что
редко удается познакомиться с документом, который столь неприкрыто раскрывает
«кухню» грязных антикоммунистических начинаний агентов буржуазии. Точно таково
же было происхождение многочисленных других кампаний, направленных против КПГ.
-------------------------------
218 ЦГАОР, ф. 4459, оп. 2, ед. хр.
114
ОБОСТРЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
И ПОЛИТИЧЕСКОГО
ПОЛОЖЕНИЯ
В КОНЦЕ 1930 —
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ
Резкое усиление фашистской опасности
Выборы в рейхстаг 14 сентября
Фашисты надеялись существенно расширить свое влияние.
Но при своей беззастенчивости гитлеровская клика не шла в прогнозах дальше
трех-четырехкратного увеличения числа своих сторонников. Однако
действительность превзошла самые дерзкие ожидания фашистских главарей. 15
сентября мир узнал о том, что в Германии произошел резкий сдвиг в сторону
реакции. Нацисты собрали 6400 тыс. голосов, что превышало число избирателей,
высказавшихся за гитлеровскую партию в
Наибольшей фракцией нового рейхстага оставалась
социал-демократическая. Но число полученных СДПГ голосов также сократилось
(почти на 600 тыс.); если же учесть, что процент участия избирателей в голосовании
был невиданно высок, то ясно, что относительные потери социал-демократов были
еще выше. Совершенно иным был результат выборов для коммунистической партии:
она приобрела 1300 тыс. новых сторонников,
115
что означало большой успех всех революционных сил
немецкого народа 1.
Но наиболее важным итогом выборов, несомненно, была
ошеломляющая победа гитлеровцев. Она произвела и в Германии, и за ее пределами
впечатление разорвавшейся бомбы2, вызвав бесчисленные комментарии.
Лишь в немногих из них — они принадлежали коммунистам {об этом будет сказано
ниже) и некоторым левобуржуазным публицистам, таким, как Осецкий,— ощущалось
постижение опасности и понимание того, как бороться против нее 3.
Значительная часть буржуазной прессы, отражая точку
зрения тех, кто ее субсидировал,[приветствовала появление в рейхстаге столь
внушительной фашистской фракции (она насчитывала теперь 107 человек) и более
или менее открыто высказывалась за включение гитлеровцев в правительство. В
этом духе выступали, например, «Дейче тагесцейтунг», опубликовавшая, в числе
других, статью бывшего командующего рейхсвером Секта, «Дейче альгемайне
цейтунг», где требование включить представителей нацистской партии в
правительство было высказано устами известного историка Шюсслера, «Гамбургер нахрихтен»
и многие другие4. Лишь газеты, примыкавшие к Государственной партии,
выражали сомнения на этот счет, отмечая, что цель нацистов — отнюдь не
конструктивная деятельность в парламенте и правительстве, а уничтожение
Веймарской республики 5.
Весьма интересна реакция буржуазной прессы Англии и
США на успех немецких фашистов 6. Часть ее открыто рекламировала
Гитлера, например газеты Херста, Ротермира и Бивербрука. Сам Ротермир после
встречи с «фюрером» напечатал в своей «Дейли мейл» статью, в которой писал, в
частности: «Если мы ближе рассмотрим переход политической власти к
национал-социалистам, то увидим, что он представляет разнообразные
преимущества, а именно — он создает прочную плоти-
--------------------
1 S. Vietzke, H. Wolgemuth. Deutschland und die
deutsche Arbeiterbewegung in der Zeit der Weimarer RepuMik 1919—1933. Berlin, 1966, S. 328—329.
2 Так, бывший рейхсканцлер
В. Маркс (партия Центра) сразу после выборок писал: «Успех национал-социалистов
оказался для меня и для моих политических друзей совершенно неожиданным. Я
предполагал, что они получат максимум 60 мест» («Neue freie Presse» 17.IX
1930).
3 Уже в статье,
опубликованной перед самыми выборами, Осецкий писал: «Трагический час
республики пробил. Дело заключается в том, чтобы сплотить людей, готовых
сделать все для предотвращения белой диктатуры» («Weltbuhnne», 1930, N 38, S.
427).
4 Е. Pfelfer. Das Hitlerbild im Spiegel
einiger konservativer Zeitungen in den Jahren 1929—1933. Munchen, 1966; ЦПА ИМЛ, ф. 215, on. 1, ел, хр. 95
5 «Frankfurter Zeitung», 27.IX
1930.
6 См. Д. И. Гинцберг. О
связях реакционных кругов США и Англии с гитлеровской партией (1930 —январь
116
ну против большевизма»7. Английский
единомышленник Гитлера трубил в ту же дудку, что и сам «фюрер».
На деле нацисты под флагом антикоммунизма стремились
ликвидировать всех политических противников вообще. В иностранных откликах был
затронут и весьма щекотливый для части капиталистических кругов вопрос о
«социализме» и антикапиталистической демагогии нацистской партии. Вот какое
мнение на этот счет высказал Дж. Эдварде, экономист одной из американских
компаний, делавших бизнес в Германии: «В противоположность своему названию эта
партия является не социалистической, а подлинно капиталистической, включающей в
себя многих крупных промышленников» 8.
Что касается германских промышленников, банкиров и
милитаристов, то в то время еще далеко не все они пришли к подобному выводу9.
Их отпугивали не только название партии — «национал-социалистская рабочая»,— но
и отдельные пункты ее программы, которая (по уже указанным причинам) в своей
первоначальной редакции предусматривала даже обобществление некоторых
предприятий и ряд других радикальных мер.
Так, правая газета «Гамбургер нахрихтен» писала 18
октября
--------------------------
7 «Daily Mail», 24.IX
1930.
8 «New York Times»,
16.IX 1930. В этой связи характерны
слова, сказанные Гитлером как раз в те дни одному из своих подчиненных:
«Социализм! Что еще за социализм?! Если людям есть чем питаться и они довольны,
значит они имеют свой социализм. Точно так же считает Гугенбсрг!» (Л. Krebs.
Tendenzen und Gestalten der NSDAP. Erinnerungen an die Fruhzeit der Partei.
Stuttgart, 1959, S. 143).
9 В архиве
«Дейче банк» хранится экземпляр нацистской программы в изложении Федера,
разосланной всем членам правления директором 29 октября
10 ЦПА ИМЛ,
ф. 215, on. 1, ед. хр. 95.
11 «Berliner Borsenzeitung», 23.XI 1930.
12 10 октября
117
С другой стороны, покровители нацизма стремились
избежать открытого выступления фашистов, ибо оно неизбежно вызвало бы отпор
рабочего класса, как было в
В 20-х числах сентября
---------------------------
в Германии писал: «Их принимают всерьез, может быть,
некоторые истеричные директоры банков, а больше никто, включая, вероятно, и
самих авторов законопроектов» (ОРФ Института истории АН СССР, ф. Ж, д. 48, п.
13 Подобный
факт воспринимается менее парадоксально, если иметь в виду, что суды Веймарской
республики откровенно сочувствовали и потворствовали гитлеровцам. По некоторым
данным, с 1928 по
14 D. Qroener-Geyer. General Groener.
Soldat und Staatsmann.
15 R. Fischer. Schleicher. Mythos
und Wirklichkeit. Hamburg, 1932, S. 38.
118
нацистами имел целью показать Гитлеру, что генералы,
хотя и сочувствуют многому в нацистских планах, не хотят делить с кем-либо
руководство армией.
Но в результате приглашения на суд Гитлера в качестве
свидетеля по вопросу о том, стремится ли возглавляемая им партия к
насильственному свержению существующего строя, политический выигрыш из процесса
извлекли фашистская клика и ее покровители. Идея пригласить «фюрера» в качестве
свидетеля исходила от защитника одного из обвиняемых, в дальнейшем достаточно
известного гитлеровца Г. Франка 16, казненного в
Основной ее смысл заключался в многословном
обосновании ложного тезиса, будто нацисты целиком и полностью стоят на почве
легальности. Председатель суда при помощи наводящих вопросов стремился еще
более усилить подобное впечатление. Его совершенно не смутило, что Гитлер в
ответ на вопрос об угрозах расправы с политическими преступниками (такие угрозы
содержались в выступлениях всех нацистских руководителей) заявил: «Когда мы
возьмем власть, будут созданы специальные суды, которые законным порядком (!)
осудят ноябрьских преступников. Тогда действительно головы покатятся в песок» 18.
Выступивший затем статс-секретарь имперского министерства внутренних дел
Цвайгерт оспаривал «легалистские» утверждения Гитлера и привел материалы,
свидетельствовавшие о противозаконной деятельности гитлеровской партии и ее
-------------------
16 См. Р.
Шерингер. Мой путь к красному фронту. Харьков, 1933, стр. 89.
17 И. Frank. Im Angesicht des Galgens. Munchen, 1953, S. 85.
18 «Deutsche
Allgemeine Zeitung», 26.IX 1930. Гитлер
только повторил здесь то, что он говорил в десятках своих выступлений, в
частности, в
119
![]() штурмовых отрядов 19. Но вслед за тем был
поставлен вопрос, чтобы Гитлер присягнул в правдивости своих показаний. После
принятия судом этого предложения Цвайгерт заявил, что его дальнейшее пребывание
на процессе бесцельно.
штурмовых отрядов 19. Но вслед за тем был
поставлен вопрос, чтобы Гитлер присягнул в правдивости своих показаний. После
принятия судом этого предложения Цвайгерт заявил, что его дальнейшее пребывание
на процессе бесцельно.
Печать считала, что для Гитлера и его партии
выступление в Лейпциге было «даром небес»20. Эта оценка нуждается в
одной существенной поправке: действительно, то был дар, только не небес, а тех,
кто хотел уже тогда видеть нацистов в германском правительстве. Сам Гитлер
лучше всех понимал важность своей Лейпцигской гастроли. Если верить Франку,
«фюрер» тут же сказал ему: «Вы будете когда-нибудь министром юстиции! Я никогда
не забуду того, что Вы сделали для меня. Эта присяга стоит многих, многих
усилий, предпринимаемых нами. О ней прочитает также Гинденбург и, возможно, он
будет более расположен ко мне»21. Главарь нацистской клики не
ошибся: его разглагольствования о легальности фашистской партии сразу же
привлекли внимание власть имущих. Выступление Гитлера в тот же день обсуждалось
на. заседании правительства!22
Своими «показаниями» Гитлер фактически дезавуировал
обвиняемых, утверждавших, что их точка зрения о необходимости насильственного
переворота соответствует позиции нацистского руководства. Но, принеся в жертву
трех своих последователей, Гитлер приобрел гораздо большее: он завоевал
сочувствие многих высокопоставленных командиров рейхсвера, которые до тех пор
косо смотрели на попытки нацистов подчинить своему влиянию армию. Вот что
говорил, например, генерал-полковник Йодль на Нюрнбергском процессе: «Я был
настроен (по отношению к нацистам.— Л. Г.) весьма скептически, и им не
удалось убедить меня, пока Гитлер не дал на Лейпцигском суде заверения, что он
выступает против какого-либо подрыва рейхсвера» 23. Такая же
эволюция, но более быстрыми темпами произошла с Л. Беком, б то время полковым командиром обвиняемых.
Он заявил на суде, что не видит в действиях подсудимых вины24.
Вероятно, это существенно ускорило возвышение Бека: в
С процессом
-----------------------------
19 «Sozialdemokratische
Parteikorrespondenz», 1930, N 10, S. 621.
20 «Berliner
Tageblatt», 26.IX 1930.
21 H. Frank, Im Angesicht des
Galgens, S. 86.
22 DZAP, Reichskanzlei, Kabinettasttzungen, N 751, Bl.
784885.
23 «Trial of the Major War Criminals
before the International Military Tribunal», vol. XV.
24 H. Schuddekopf Das Heer und die Republik. Hannover, 1955, S. 269.
120
лась уже в результате предательства со стороны
Гитлера, попав в крепость — подсудимые были приговорены к 11/z
годам каждый,— порвал с нацистской партией. Находившиеся вместе с ним в
заключении коммунисты в долгих беседах с убежденным националистом сумели доказать
ему, что его взгляды ошибочны 25. Весной
Правящие круги и гитлеровская партия
Речь Гитлера на процессе в Лейпциге была прелюдией к
прямым контактам между нацистской верхушкой и правительством. Инициаторами
переговоров выступили крупнейшие промышленники и банкиры. Мотивы их действий
весьма красноречиво выразил глава одной из рурских компаний в телеграмме
знакомому нью-йоркскому финансисту: -«Скажите своим друзьям на Уолл-стрите, что
«добропорядочный немец» испытывает страх не перед национал-социалистской
революцией, а только перед большевистской» 27.
Переговорам нацистов с правительством предшествовала
(или сопровождали их) встречи Гитлера и его приближенных с хозяевами «большого
бизнеса». Одна из них состоялась вскоре после выборов по инициативе директора
«Дейче банк» Штауса; формальным поводом явились переговоры о блокировании
правобуржуазных партий при избрании президиума рейхстага,
-------------------------------
25 F. Gаbler. Erinnerungen an meine
Festungshaft in Gollnow und meine ersle Begegnung mit Richard Scheringer.— «Beitrage zur Geschichte der deutschen
Arbeiterbewegung», 1961, N 3.
26 P. Шерингер. Мой путь к красному фронту, стр. 130. Примечательна дальнейшая судьба этого человека.
Шерингер чудом уцелел в годы фашистской диктатуры, хотя его не раз бросали в
гестаповские застенки. Но вот нацистский режим рухнул под ударами
антигитлеровской коалиции. Шерингер возглавил баварскую организацию КПГ, стал се депутатом в ландтаге. Однако постепенно в
ФРГ возобновились преследования коммунистов, и в
27 ЦГАОР, ф. 4459, on. 2, ед. хр. 1251.
121
но на деле беседа касалась более широкого круга
вопросов. За этим последовали поездки Гитлера на запад страны, где обосновались
наиболее могущественные монополии. Именно им, как явствуют архивные материалы,
в частности переписка Вестарпа с его единомышленниками, фашистский главарь и
адресовал свои претензии па участие в правительстве 28.
В ноябре
Перед такого рода аудиторией Гитлеру не было нужды
«темнить»; он не скрывал, что «социалистическая» фразеология некоторых пунктов
программы и многочисленных выступлений фашистских главарей — это только
вынужденная маскировка, необходимая для «уловления душ», для расширения
массовой базы реакции. О том же поведал на Нюрнбергском процессе Шахт,
встретившийся с Гитлером в начале
------------------------------
28 К. D.
Bracket. Die Auflosung der Weimarer Republik.
29 W. Jochmann. Nationalsozialismus und Revolution. Ursprung und Geschichte der NSDAP in
30 О
малоизвестном факте, характеризующем усилия Куно и Тиссена в этом направлении,
сообщал в своем донесении в Вену от 12 декабря
122
после прихода к власти он положит конец классовой
борьбе, устранит стачки и вообще конфликты, связанные с заработной платой 31.
Такова была оборотная сторона гитлеровской демагогии.
Аналогичную цену имели посулы нацистов трудящимся крестьянам. Это видно из
архивных материалов о беседах Гитлера с крупными землевладельцами, состоявшихся
в начале
Западногерманская буржуазная историография, касаясь
событий начала 30-х годов, тщится доказать, будто стоявшие у власти группировки
господствующего класса были принципиально враждебны гитлеровцам и всячески
стремились не допустить их включения в состав правительства. Так, Э. Маттиас
утверждает, что осенью
Эта и подобные ей версии противоречат общеизвестным
фактам, прежде всего тем, которые характеризуют цели создания и назначение
правительства Брюнинга, а также всему, что мы знаем о намерениях и практических
шагах правящих кругов
----------------------------
31 «Trial of the Major
War Criminals before the International Military Tribunal», vol. XII. Nuremberg, 1947, p. 420. Еще более откровенно,
обращаясь к предпринимателям, выразил то же нацист Г. Гельд: «Мы, национал-социалисты,
разобьем профсоюзы рабочих. Поэтому вы не должны возражать против
приспособления нашей агитации к духу рабочих. Если мы говорим об
огосударствлении чего-либо, это вовсе не значит, что мы действительно думаем о
том» (ЦПА ИМЛ, ф. 215, оп. 1,
ед. хр. 95).
32 «Das historische
Recht auf Fuihrung der Nation. Dokumente aus 100 Jahren deutscher Geschichte». Berlin, 3962, S. 104.
33 «Тесная
связь между Национальной и национал-социалистской партией,— писал он в феврале
34 «Der Weg in die
Diktatur 1918—1933. Zehn Beitrage»,
Munchen, 1963, S. 79.
123
![]()
![]()
после сентябрьских выборов 35. А эти
намерения предусматривали тесное сотрудничество с нацистами. Контакты
осуществлялись по различным каналам, но все они были окружены глубокой тайной,
и участники их постарались оставить потомкам минимум документов. Тем не менее
общая картина попыток сговора тех, кто считал и называл себя «демократами», с
гитлеровской кликой, уже осенью
Главным посредником в этих переговорах был Тревиранус.
Он рассказал о них уже после отставки правительства, в сентябре
О причинах, по которым переговоры на том этапе не
увенчались успехом, мы скажем ниже. Пока же коснемся других свидетельств. Они
содержатся, в частности, в воспоминаниях А. Кребса, видного деятеля нацистской
партии б первый период ее
существования, позднее порвавшего с ней. В сентябре
Состоялись две встречи, которые, по словам Кребса, на
первых порах привели к определенным результатам. По тем же сведениям,
впечатление Брюнинга от знакомства с Гитлером
--------------------
35 Это
недвусмысленно подтверждает и сам Брюнинг (Н. Bruning. Memoiren 1918—1934.
36 «Vossische
Zeitung», 11.IX !932; см. также В. Меппе. The Case of Dr. Bruening.
37 G. R. Treviranus. Das Ende von
Weimar. Heinrich Bruning und seine Zeit. Dusseldorf
— Wien, 1968, S. 164.
124
было положительным 38. Согласно же
дневниковой записи статс-секретаря рейхсканцелярии Пюндера, после первого
свидания Брюнинг и Гитлер расстались, «будучи полностью убежденными в том, что
их связывают общие культурные идеалы» 39.
В своих мемуарах Брюнинг обстоятельно изложил беседу,
состоявшуюся'6 октября
Еще одним каналом контактов правительства с нацистской
верхушкой были связи, издавна существовавшие между командованиями армии и гитлеровских
штурмовых отрядов. Хотя генералы опасались конкуренции со стороны главарей
штурмовых отрядов, численность которых в
--------------------
38 A. Krebs. Tendenzen und Gestalten
der NSDAP, S. 140—141.
39 J. Becker. Bruning, Pralat Kaas
und das Problem einer Regierungsbeteiligung der NSDAP 1930—1932,—«Historische
Zeitschrift», 1963, Bd. 296, N 1, S. 81.
40 H. Bruning. Memoiren
1918—1934, S. 194—196.
125
обучали коричневорубашечников военному делу и т. п.
Этот вопрос затрагивался на заседании правительства в декабре
Именно эти два лица и были постоянным связующим звеном
между правящими кругами и нацистской кликой; даже когда непосредственные
переговоры о привлечении нацистов к власти прерывались на более или менее
длительное время, контакты Шлейхера с Ремом, а через него с Гитлером, несмотря
па внешнюю обостренность отношений партнеров, продолжались как ни в чем не
бывало. Здесь важную роль сыграл Рем, бывший армейский офицер (он
покровительствовал Гитлеру, когда последний был осведомителем рейхсвера),
имевший обширные связи среди генералитета. Рем, в течение нескольких лет после
размолвки с Гитлером находившийся в Боливии, как раз в конце
А пока за кулисами шли переговоры, фашистские партнеры
«респектабельных» буржуа, стоявших у руля правления страной, вновь и вновь
обнаруживали свои намерения, свою человеконенавистническую сущность. Множились
бандитские нападения нацистов на рабочих — социалистов и коммунистов. О том,
как действовали гитлеровские головорезы, можно узнать из воспоминаний
коричневорубашечника Ломана. Вот как он описывает появление эсэсовского
подкрепления в момент одной из многочисленных в то время схваток между
гитлеровцами и антифашистами: «Как косцы на хлебном поле, как нибелунги в стаде
гуннов, СС прокладывают себе путь по всей ширине зала. Даже нас подирает мороз
по коже, когда до пас доно-
------------------------
41 Т. Vogelsang. Reichswehr, Staat und NSDAP.
42 J. Wheeler-Bennett.
The Nemesis of Power. The German Array in Politics 1918—1945. New York, 1954, p. 226.
43 Уверения в
«легальности» возымели свое действие. 19 декабря
126
сится свистящий звук мерно рассекающих воздух
наплечных ремней» 44.
13 октября открылся новый рейхстаг. В этот день
нацисты решили показать миру кое-что из того, чем они собирались обогатить
Германию после своего прихода к власти. Они организовали на центральных улицах
Берлина бесчинства, завершившиеся разгромом магазинов, владельцами которых были
евреи. Под аккомпанемент криков «Германия, проснись!», почти не встречая
противодействия со стороны полиции, нацисты били стекла в зеркальных витринах
универмагов. Те из них, кого полиция все же арестовала, были на следующий день
отпущены на свободу.
Пока на улицах шел первый крупный погром, в рейхстаге
разыгрался второй акт гитлеровской инсценировки. Перед открытием заседания в
зале военным строем появились депутаты-нацисты (их было, как отмечалось, свыше
сотни), все, как один, в форме штурмовиков. Фашисты обошли существовавший тогда
в Пруссии запрет ношения формы, переодевшись в самом здании рейхстага.
Но это была только прелюдия к последующей «работе» в
парламенте. Не было почти ни одного заседания, которое не закончилось бы
удалением кого-либо из распоясавшихся нацистов, хотя председатель рейхстага
социал-демократ П. Лебе и его заместители, представлявшие буржуазные
партии, проявляли по отношению к их диким выходкам максимум терпения. Среди
нацистов имелась большая группа уголовных преступников, осужденных в свое время
на долгие сроки, но позднее амнистированных, теперь они занимали высокие посты
в командовании штурмовых отрядов.
Буржуазная печать (так же, как в 60-х годах поступала
пресса западногерманских монополий в отношении неонацистской
национал-демократической партии) выражала надежду на то, что парламентская
деятельность «цивилизует» гитлеровцев, поможет устранить «крайности», которые
шокировали правящую верхушку, затрудняя сговор с Гитлером. «Национал-социализм
должен быть канализирован и обращен в правильное русло»,—писал 15 декабря
Но то, что хитроумные политики из буржуазного лагеря
считали крайностями, на деле отражало сущность нацистской партии. Фашизм не
имеет ничего общего с демократией, в том числе в ее буржуазной форме. Да и сами
гитлеровцы не скрывали этого, они издевались над теми, кто, находясь у власти,
давал заклятым врагам республики возможность использовать
------------------------------
44 Н. Lohmann. SA raumt auf! Aus der Kampfzeit der Bewegung. Hamburg, 1939, S. 133.
127
предоставляемые ею свободы в целях уничтожения
существующего строя. Особенно откровенен был Геббельс. Он писал: «Мы идем в
рейхстаг, чтобы добыть в арсенале демократии ее же собственное оружие. Мы
становимся депутатами, чтобы парализовать Веймарскую республику, используя ее
же поддержку»45. А выступая в начале
В центре деятельности нацистов, в том числе в
рейхстаге, находились пропаганда войны, борьба против всего, что препятствовало
ее подготовке, прежде всего в области идеологии. Отсюда внесенный ими в
рейхстаг законопроект, предусматривавший смертную казнь за выступления в пользу
материального или духовного разоружения, за участие в антимилитаристских
объединениях47.
Осенью
Так устанавливалось единомыслие правящих кругов с
нацистами в деле идеологической подготовки немецкого народа к будущей реваншистской
войне. Гитлеровцы вели эту подготовку
------------------------------------
45 - Историко-дипломатический архив, ф. 90,
оп. 1, д.
45 «Verhandlungen des Reichstags», Bd. 444,
S. 688. А вот что говорил (согласно
полицейскому отчету) Геринг, выступая в начале
47 «Verhаndlungen des Reichstags», Bd. 440, N 1741. Помимо того, нацистский законопроект предусматривал
смертную казнь {или каторжные работы) за «измену народу», «экономическую
измену», «измену расе» и «культурную измену», телесные наказания за принижение
или оскорбление национальных героев, полководцев кайзеровской армии или
рейхсвера, в особенности же знаков различия, знамен, военной формы и т. и.
48 О. Braun. Von Weimar zu Hitler.
49 Ibid., S. 316.
128
наиболее активно и целеустремленно, особенно в
пограничных областях. В Восточной Пруссии, например, подвизался пресловутый
Гейдрих, будущий палач чешского и словацкого народов, убитый в
И все же, несмотря на то,
что определенные условия для сговора
правительства с гитлеровской кликой имелись, он в рассматриваемое время так и
не произошел. Конечно, отнюдь не потому, что Гинденбург, Брюнинг или кто-либо
еще из их окружения осознали неприемлемость блока с могильщиками республики.
Причины были иного, гораздо более прозаического свойства; грубо говоря,
партнеры не сторговались. Требования, которые выдвигала гитлеровская клика,
сводились к получению постов имперского военного министра, имперского и
прусского министров внутренних дел, а также полицей-президента Берлина 50.
Эти требования были, по мнению тех, кто стоял у власти, чрезмерными и
заставляли опасаться за дальнейшее: ведь речь шла о таких позициях, которые
олицетворяли собой аппарат подавления,—-армию и полицию.
Очень ярко обрисовал создавшееся положение в статьях,
появившихся с интервалом в два месяца, реакционный политический деятель капитан
Эрхардт, в прошлом командир контрреволюционного добровольческого соединения. В
первой из них, опубликованной в декабре
------------------------------
50 «Vorwarts», 16, 18.IX 1930.
51 ЦПA ИМЛ, ф. 215, on. 1, ед. хр. 191; «Berliner
Borsenzeitung», 12X11 1930
52 «Deutsche Allgemeine Zeitung», 20.11
1931.
129
В рождественском номере одной из буржуазных газет за
Все они высказывались за необходимость привлечения
гитлеровцев к власти. Но наиболее важен и симптоматичен ответ Шюсслера,
озаглавленный «Слишком рано!» За прошедшие три месяца точка зрения Шюсслера
видоизменилась. Он писал, что участие гитлеровской партии в правительстве, если
теперь оно окажется преждевременным, приведет к ее ослаблению ввиду
«противоречия между идеей и действительностью», иными словами — между
демагогическими обещаниями фашистов и их реальной политикой у власти. Шюсслер
останавливался на возможных последствиях провала правительства с участием
гитлеровцев, и считал эти последствия катастрофическими: они «оставили бы
далеко позади все, что мы пережили поздней осенью
Такой ответ наиболее точно выражал позицию тех
группировок германской буржуазии, которые находились у кормила правления 54.
Об этом уже шла речь при изложении беседы Брюнинга с Гитлером 6 октября
-------------------------
53 «Deutsche
Allgemeine Zeitung», 25.XII 1930. Но Брюнинг все время имел такую возможность в
виду. По этой причине, признается он, не было возбуждено судебное преследование
Геринга, чьи контакты с итальянскими дипломатами явно вышли за рамки
«дозволенного». Рассказывая о связанных с этим частых визитах к нему Геринга в
марте —апреле
54 См. «Geschichte der deutschen Arbciterbcwegung», Bd. 4.
55 E. Jonas. Die Volkskonservativen
1928—1933. Entwicklung, Struktur, Standort und staatspolitische Zielsetzung. Diisseidorf, 1965, S. 93.
130
Отказываясь от включения нацистов в общегерманское
правительство, те же круги находились с ними в коалиции в Тюрингии. Здесь Фрик
все настойчивее насаждал порядки, соответствовавшие нацистским идеалам; он ввел
в школах шовинистические песнопения, изгонял прогрессивно мыслящих профессоров
из высших учебных заведений56, заполняя полицию своими
единомышленниками, и т. п. Под давлением общественного мнения имперский министр
внутренних дел пытался противодействовать деятельности Фрика, прекратив выплату
имперских ассигнований. Однако Фрик обратился к Верховному суду, и Вирт
отступил (что немедленно вызвало издевательские комментарии гитлеровских
газет).
Коалиция нацистов с другими правобуржуазными партиями
просуществовала в Тюрингии больше года; она распалась, когда даже
доброжелателям нацизма из буржуазных партий стало невмоготу. Поводом к разрыву
послужила речь нацистского гаулейтера Тюрингии пресловутого Заукеля, который
назвал союзников по правительству «предателями и обманщиками, бесстыдно
ведущими преступную игру с судьбами нашего народа»57. Это, однако,
не помешало представителям тех же партий заседать с гитлеровцами в
правительстве другой земли — Брауншвейга, где политика последних и их отношение
к партнерам по коалиции были такими же, как в Тюрингии. Брауншвейг задолго до
установления гитлеровской диктатуры превратился в заповедник фашизма.
Здесь инцидент с прекращением выплаты имперских
ассигнований повторился с тем же результатом. Из архивных документов известно,
что Брюнинг и большинство возглавлявшегося им правительства не были склонны
разрешить Вирту и далее следовать по намеченному им пути 58.
Блокированные на некоторое время средства снова стали выплачиваться нацисту,
занимавшему пост министра внутренних дел Брауншвейга, хотя бесчинства фашистов,
пользовавшихся там полнейшей безнаказанностью, продолжались.
Небывалый успех нацистов на выборах в рейхстаг и в
ландтаги ряда земель, участие их в некоторых земельных правительствах, занятие
ими видных постов в рейхстаге (так, Фрик возглавил комиссию по иностранным
делам, а Франк — юридическую комиссию!) были
симптомами серьезнейшей опасности, нависшей над Германией. Правда, гитлеровцам
не удалось
------------------------
56 «В
Тюрингии мы поставим все школьное дело на службу воспитания в немцах фанатичных
националистов»,— писал Гитлер в феврале
57 ЦПА ИМЛ, ф. 215, ед. хр. 193 (Листовка
Народной партии).
58 Этот
вопрос правительство рассматривало 30 октября
131
завоевать сколько-нибудь прочных позиций в рабочем
классе; недаром Фрик писал в одном нацистском бюллетене, что «главную массу
рабочих мы, безусловно, завоюем только тогда, когда будем располагать властью»59.
Но фашисты подчинили своему влиянию те классовые прослойки, которые могли бы
стать союзниками пролетариата в борьбе за социальный прогресс, превратив эти
слои в его противников. Еще важнее, что рабочий класс Германии, представлявший
собой мощную силу, был тогда расколот, причем большинство его шло за
социал-демократическими лидерами.
Политика «меньшего зла» социал-демократического руководства
Выборы 14 сентября
Позиция руководства социал-демократии ни теоретически,
ни практически-политически не соответствовала сложившемуся положению и задачам,
стоявшим перед германским пролетариатом. Для лидеров СДПГ фашистская угроза
отнюдь не послужила стимулом к борьбе с реакцией (как они пытались утверждать).
Напротив, успех гитлеровцев явился для них сигналом к отказу даже от словесной
оппозиции антинародному курсу правящих кругов Германии.
Если говорить и теории, то социал-демократические
идеологи неверно толковали суть фашизма, чем дезориентировали своих
сторонников. В течение ряда лет социал-демократические теоретики упорно
отстаивали тезис о том, что победа фашизма возможна лишь в аграрных, по их
терминологии, «от-
----------------
59 ЦПА
ИМЛ, ф. 215, оп. 1, ед. хр. 95. Примерно то же сказал Гитлер О. Штрассеру: «Мы
не можем рассчитывать завоевать значительное число рабочих» (О. Strasser. Mein
Kampf.— «Der Spiegel», 1969, N 17, S.
132
сталых» странах и что Германии фашизм якобы не опасен.
Даже осенью
Теоретики СДПГ, как правило, отрицали, что фашизм —
это орудие наиболее реакционных кругов крупной буржуазии. Тот же Декер
утверждал, например, что «существо фашизма состоит не в установлении диктатуры
одного класса, не в неограниченном господстве капитала»61. Другой
такой же знаток фашизма, Шифрин, ставил после 14 сентября
В реформистской литературе фашизм чаще всего
изображался как «надклассовое» явление или как мелкобуржуазное по своему характеру
движение. Значение гитлеризма, согласно этой точке зрения, заключалось якобы в
«окончательном высвобождении средних слоев из-под власти крупного капитала» 63.
Среди руководителей СДПГ имела хождение еще одна версия, будто гитлеризм
выражает интересы юнкерства и потому враждебен буржуазии. Этой точки зрения
придерживался, например, один из председателей партии (двумя другими в то время
были О. Вельс и А. Криспин), бывший рейхсканцлер Г. Мюллер. Он писал, что
«фашисты хотят навязать современному капитализму сословный строй средневекового
характера» 64 Все эти концепции не имели ничего общего с
действительностью и лишь затушевывали подлинную сущность нацизма, который был
плодом стремления реакционных группировок германского монополистического
капитала к неограниченной диктатуре^?
Ho дело вовсе не ограничивалось теорией, хотя и она
причиняла немалый вре-д. Гораздо больший ущерб борьбе против фашизма,
уничтожить который страстно желали и рабочие со-
--------------------------
60 «Geseilschaft», 1929, N 9, S.
233.
61 «Vorwarts», 12.IX 1930.
62 «Geseilschaft»,
1931, N 1, S. 4.
63 «Geseilschaft»,
1930, N 12, S. 498.
64 «Jahrbuch der Sozialdemokratischen
Partei Deutschlands» 1931 S IV
133
циал-демократы, наносил политический курс руководства
СДПГ. Гитлеризм не смог бы превратиться в столь грозную опасность, если бы
социал-демократы, возглавлявшие правительства (или отдельные министерства) в
Пруссии и ряде других земель, не потворствовали ему, не мирились с его
беззастенчивой демагогией, с его террористическими выходками. Главную свою
задачу лидеры СДПГ видели в рассматриваемое время, подчеркивает В. Ульбрихт, «в
том, чтобы склонить промышленных рабочих к непротивлению чрезвычайным декретам
и отказу от какой-либо массовой борьбы против буржуазного блока и фашизма» 65.
Этой цели и отвечал намеченный после сентябрьских выборов курс, который
известен под названием политики «меньшего зла»; он заключался в поддержке
правобуржуазного правительства Брюнинга, провозглашенного «защитником
демократии».
О том, как Брюнинг защищал демократию, уже было
сказано выше; об этом будет речь и впереди. Те круги, которым
социал-демократические лидеры — Вельс, Зеверинг, Мюллер и др.— доверили «судьбы
демократии», вовсе не чурались сговора с крайней реакцией; их разделяли не
принципиальные расхождения, а лишь разногласия по тактическим вопросам. Они не
собирались отстаивать буржуазно-демократический режим, стремясь лишь к тому,
чтобы любые изменения совершались в наиболее приемлемой для господствующих
классов форме. Ложная в своей основе доктрина «меньшего зла» предопределяла
гибельность всей политики руководства СДПГ >в годы, предшествующие приходу
Гитлера к власти.
Брюнинг, подчас подвергавшийся резким нападкам со
стороны нацистов, на деле своими действиями прокладывал путь Гитлеру, выхолащивая
и сводя на мет демократические права и обычаи. Об этом совершенно открыто
говорилось и в буржуазной прессе. «Политическую деятельность Брюнинга,— писала,
например «Дейче альгсмайне цейтунг»,— можно коротко охарактеризовать, лишь
используя выражение Бисмарка, что она означает прелюдию к национальной
диктатуре. Она приучает народ к диктатуре, что позволит преемникам Брюнинга
утвердиться посредством ссылки на своего предшественника»6б. Яснее,
пожалуй, и не скажешь.
Итоги сентябрьских выборов вызвали в руководстве
социал-демократии сильнейшую растерянность. Мнения по поводу того, что делать
дальше, разделились. В руководстве имелись и приверженцы допущения нацистов к
участию в имперском правительстве, дабы они «разоблачили себя». О подобных мастрое-
--------------------
65 W. Ulbrichi. Zur Gesehichte der deutschen
Arbeiterbewegung, Bd. I. Berlin, 1953, S. 496.
65 «Deutsche Allgemeine Zcitung», 4.X 1931.
134
ниях некоторых лидеров партии говорилось в письме Г.
Мюллера О. Брауну, датированном первыми числами октября
Сообщение Брауна показывает, что он принадлежал к
числу тех политических деятелей (об отдельных из них мы говорили выше), которые
уже в
И все же не эти настроения преобладали в руководстве
партии. Да и никто бы не посмел всерьез выступить перед рабочими массами в
пользу столь очевидной фашизации государственной власти. В своем большинстве
лидеры СДПГ субъективно являлись противниками Гитлера. Только занимая такую
позицию, можно было сохранить влияние па миллионы трудящихся. Но словесный
антифашизм, внешне очень импозантный, никак не помогал развертыванию борьбы
против фашистской угрозы. Ибо нельзя было всерьез вести эту борьбу, имея таких
союзников, как Брюнинг, и ограничиваясь теми методами пассивного сопротивления,
каких придерживалось руководство СДПГ.
Выше уже отмечались симптомы того, что еще до выборов
среди лидеров социал-демократии существовала склонность к соглашению с
правительством. Но конкретные формы это стремление приобрело во второй половине
сентября. Лишь б последние годы
стали известны некоторые детали закулисных переговоров с Брюиингом на предмет
выяснения методов сотрудничества СДПГ с правительством в новых условиях,
созданных итогами выборов в рейхстаг. Переговоры эти начались в 20-х числах
сентября и велись (как и встречи Брюнинга с Гитлером) в глубокой тайне.
--------------------------------
67 О. Braun. Von Weimar zu Hitler, S. 309.
68 Ibidem.
69 «Abend», 20.1X 1930.
A
135
Первая беседа состоялась на квартире Гильфердинга, и
ее участниками, кроме хозяина, были Брюнинг и Мюллер. Вторая встреча произошла
30 сентября на квартире статс-секретаря рейхсканцелярии Пюндера (от которого и
известны эти данные); Брюнинг имел в тот вечер «безусловно, весьма ценную
беседу» с председателями СДПГ Вельсом и Мюллером. Те же лица посетили 2 октября
рейхсканцлера; по словам Пюндера, речь шла о том, что следует сделать, чтобы
предотвратить принятие внесенного КПГ
вотума недоверия правительству70. 10 октября состоялась
еще одна встреча. Но лишь из мемуаров Брюнинга стало известно, что переговоры не ограничивались теми
или иными частными вопросами. Рейхсканцлер доверительно познакомил
социал-демократических лидеров со своей всеобъемлющей программой «реформ»,
имевшей целью установление авторитарного режима, и поставил перед ними вопрос о
поддержке этой программы 71.
В этих беседах и была окончательно оформлена политика
«меньшего зла». 3 октября собралась социал-демократическая фракция рейхстага,
чтобы определить свою позицию па предстоявшей сессии нового парламента. В
резолюции говорилось, что «фракция видит в сохранении демократии главную свою
задачу»; исходя из этого, она '«выступит за решение неотложных финансовых
задач»72. Это означало, что верхушка СДПГ более не мыслит об отмене
июльского чрезвычайного декрета и целиком поддержит Брюнинга (уже подготовившего к тому времени новый
проект «экономии» 1600 млн. марок за счет трудящихся) 73. Именно так
и трактовала резолюцию социал-демократической фракции вся буржуазная пресса,
игнорировавшая заверения лидеров СДПГ, что они якобы «еще не знают», как будут
голосовать в рейхстаге. Сообщения о решении социал-демократической фракции
«Берлинер тагеблат» преподнесла 4 октября под широковещательным заголовком
«Готовы к сотрудничеству». Газета «Франкфуртер цейтунг» от 6 октября назвала
это решение «хорошо обдуманным реально-политическим шагом», а «Дейче альгемайне
цейтунг» (4 октября) — «умнейшим решением».
Уже одних этих похвал буржуазной прессы достаточно,
чтобы уяснить значение нового курса руководства СДПГ. Ведь прошло совсем
немного времени после предвыборной кампании, в ходе которой социал-демократические
пропагандисты не ща-
-----------------------------
70 И. Punder. Politik in der Reichskanzlei.
Aufzeichnungen aus den Jahren 1929—1932.
Stuttgart, S. 61—63; «Das Ende der Parteien 1933». Dusseldorf, 1960, S,
105—106.
71 H. Bruning. Memoiren 1918—1934,
S. 188.
72 «Vorwarts», 4.X
1930.
73 «Rote Fahne», 2.X
1930.
136
дили Брюнинга. Вот что говорил, например, В. Дитман па
избирательном собрании в Берлине: «Лишь кабинет Брюнинга дал капиталу
возможность проводить во всех областях антирабочую и антинародную политику». Он
призвал «нанести им такой удар, чтобы у них прошла охота к новым авантюрам»74.
А меньше чем через месяц после этого рабочим социал-демократам доказывали, что
волк превратился в ягненка.
Материалы, печатавшиеся в это время в теоретическом
органе СДПГ, свидетельствуют о том, что социал-демократические лидеры отнюдь не
заблуждались насчет подлинной сущности правительства Брюнинга, которая между
летом и осенью
Первая сессия рейхстага нового созыва, открывшаяся 13
октября
--------------------------------------------------
74 «Vorwarts», 20.VIII 1930.
75 «Gesellschaft», 1930, N 12, S. 482, 483.
76 Говоря в своих мемуарах об этой сессии, Брюнинг с
нескрываемым удовлетворением отмечает: «С тех пор рейхстаг никогда более не
собирался против воли правительства» (Н. Bruning. Memoiren 1918—1934, S,
201).
77 «Vorwarts», 18.X 1930.
137
![]() И вновь
буржуазная пресса торжествовала по поводу исхода голосования в рейхстаге и, в
особенности, позиции, запятой фракцией СДПГ. Орган партии Центра «Германиа»
отметил, что поведение социал-демократов «заслуживает самой высокой
признательности» 78. Пожалуй, точнее всех выгоды, которые политика
'«меньшего зла» принесла господствующим классам Германии, выразил известный
историк Ф. Майнеке в письме, датированном 30 октября
И вновь
буржуазная пресса торжествовала по поводу исхода голосования в рейхстаге и, в
особенности, позиции, запятой фракцией СДПГ. Орган партии Центра «Германиа»
отметил, что поведение социал-демократов «заслуживает самой высокой
признательности» 78. Пожалуй, точнее всех выгоды, которые политика
'«меньшего зла» принесла господствующим классам Германии, выразил известный
историк Ф. Майнеке в письме, датированном 30 октября
Верхушка СДПГ, неразрывно связавшая свою будущность с
судьбами германского капитализма, в минуты откровенности не скрывала своего
назначения, которое она видела в ликвидации КПГ. «Представление об
автоматическом развале КПГ (!) —говорилось в одной из статей, опубликованных в
теоретическом органе социал-демократов,— оказалось ошибочным. Каждый из нас
должен вбить себе в сознание: необходима борьба за рабочих-коммунистов. Следует
понять, какие возможности это открывает для социал-демократии, следует понять,
что речь идет о ключевой проблеме германского рабочего движения»80.
Даже такой крупный политический деятель, как Брейтшейд
(позднее, как известно, осознавший ошибочность своей тогдашней позиции), в
апреле
Антикоммунизм был особенно силен среди тех деятелей
социал-демократии (довольно многочисленных до середины
------------------------------------------
78 «Germania», 19.X 1930.
79 F. Meinecke. Ansgewahlter Briefwechel. Stuttgart, 1962, S. 128.
80 «Gesellschaft», 1930, N 8, 5. 140.
81 Историко-дипломатический архив, ф. 330, д.
138
Поворот социал-демократических лидеров к сговору с
правительством Брюнинга немедленно вызвал среди членов и сторонников партии
большое брожение. Оно сказалось буквально па второй день после принятия
социал-демократической фракцией рейхстага известного решения от 3 октября.
Чрезвычайный партейтаг берлинской организации СДПГ, собравшийся 4 октября, стал
ареной острой борьбы между теми, кто поддерживал фракцию и Правление, и
многочисленными членами партии (среди них были и низовые функционеры), резко
возражавшими против политики «меньшего зла», доказывая ее гибельность. Один из
них, Нейман, в своем выступлении заявил: «Благодаря нашей поддержке
правительства фашизм получит время, чтобы укрепиться для установления своего
господства, между те-м как сейчас он не подготовлен к этому» 82.
Собравшиеся выдвинули требование созыва внеочередного съезда партии.
Такую же реакцию решения фракции, а затем ее
голосование 18 октября в рейхстаге породили и в других организациях СДПГ. Она
усилилась по мере того, как руководство партии своей поддержкой давало
возможность правительству Брюнинга все более снижать жизненный уровень
трудящихся, как росла опасность фашистского переворота. В мае
В этих условиях активизировалась оппозиция, имевшаяся
в руководящих органах СДПГ и отражавшая, правда весьма непоследовательно,
возмущение политическим курсом официальных лидеров партии. К левой оппозиции
принадлежали депутаты рейхстага К. Розенфельд, М. Зейдевиц, К. Экштейн и др.;
ее оплотом была Саксония, издавна являвшаяся цитаделью
последовательно-революционных сил германской социал-демократии. Левые издавали
свой журнал «Классенкампф», в котором подвергали политику партии резкой
критике, подчеркивая, что она способствует не предотвращению прихода
гитлеровцев к власти, а его приближению. Но политическая платформа левых
социал-демократов в целом не отражала насущных потребностей германского
рабочего класса в столь ответственный момент его истории.
------------------------------------------
82 «Vorwarts»,
5.X 1930.
83 ЦПА ИМЛ,
ф. 215, оп. 1, ед, хр. 193.
139
Это касалось и главного вопроса, от которого зависели
судьбы германского пролетариата, судьбы всей страны,— вопроса о едином рабочем
фронте. Левая оппозиция в СДПГ, на словах признавая необходимость сплочения
рядов пролетариата, обставляла это всякого рода оговорками. Между тем задача
левых состояла в немедленном разрыве с политикой срыва единого фронта, которую
упорно вели лидеры социал-демократии. После сентябрьских выборов реформистская
верхушка не только не изменила своего курса по отношению к коммунистической
партии, но умножила свои попытки разжечь рознь между братскими отрядами рабочего
класса. «Уровни сознания так страшно различны,— писал в марте
Гитлеровские головорезы, с каждым месяцем усиливавшие
террор, не получали достаточного отпора, ибо руководство СДПГ стремилось
изолировать стихийно подымавшихся на борьбу с фашистами рабочих
социал-демократов, не допустить их совместных действий с
пролетариями-коммунистами. Со страниц социал-демократических газет велась
проповедь непротивления гитлеровскому террору, уверения в том, что
социал-демократия должна противопоставить ножам и кастетам нацистских убийц
«оружие духа и права»85. И, стремясь подчеркнуть свои «заслуги»
перед господствующими классами, социал-демократические главари откровенно
похвалялись: «Только благодаря образцовой дисциплине до сих пор (массы) не
прибегли к средствам самозащиты» 86. В то же время полиция,
возглавлявшаяся в Берлине, Гамбурге и ряде других крупных городов Германии
социал-демократами, усердно защищала нацистов от народного гнева. Так, слет
фашистов в берлинском районе Шарлоттенбург, в котором участвовало не более 500
человек, охраняло 400 полицейских; они неистовствовали, разгоняя и избивая
революционных рабочих87.
Неубедительно звучали в свете этих фактов
многочисленные заявления руководителей социал-демократической партии,
----------
84 «Das freie Wort»,
1931, N 10, S. 22—23.
85 «Vorwarts», 31.1 1931.
86 «Abend», 3.1 1931.
87 «Rote Fahne», 5.VIII 1930.
140
будто они вели эффективную борьбу против фашизма.
Отрицательные итоги переговоров правящих кругов с нацистами Вельс и К0
усиленно выдавали за успех своей политики. Выступая в начале
Отрицательные последствия имело и преуменьшение
опасности фашизма, связанное часто с колебаниями числа голосов, которые
получала нацистская партия на выборах в ландтаги после сентября
Таким образом, политика «меньшего зла» несла рабочему
классу Германии тяжелые бедствия. Вот почему коммунисты сразу же подвергли ее
бичующей критике. После выступления фракции СДПГ в поддержку правительства
«Роте фане» писала: «Вчерашнее голосование является самым большим предательством
социал-демократов после 4 августа
Факты говорят о том, что реформистская верхушка по сути
дела сама отреклась от буржуазной демократии. Кое-кто из руководящих деятелей
или идеологов СДПГ откровенно признавал ее излишней. «Нельзя больше
прокламировать сохранение демократии как политической реальности,—писал,
например, 3. Марк, слывший в СДПГ теоретиком.— Лишь идея демократии
должна сохраняться» 93. В этих словах четко выражена пропасть между
лозунгами и подлинными намерениями лидеров СДПГ. Но распознавание этих намерений
рядовыми членами партии и многими ее сторонниками шло медленно. Велика была
-----------------------------------------
88 ЦПА ИМЛ, ф. 215, on. 1, ед.
хр. 210.
89 Там же, ед. хр. 95.
90 Там же, ед. хр. 210.
91 «Rote Fahne», 19.Х 1930.
92 «Rote Fahne», 21.X 1930.
93 S. Marck. Sozialdemokratie.
Berlin, 1931, S. 49 (курсив наш.- Л. Г.)
141
сила традиций, связывавших рядовых социал-демократов
со своей партией, весьма серьезное идеологическое влияние на массы оказывали
многочисленные политические уловки, к которым прибегало руководство СДПГ. К
тому же в его руках (особенно же в руках главарей свободных профсоюзов,
являвшихся социал-демократами) сохранялись некоторые рычаги материального
воздействия, значение которых в обстановке углублявшегося с каждым месяцем
экономического кризиса и катастрофического обнищания масс резко возросло.
Вот почему в первые годы кризиса массовый протест
против наступления на жизненный уровень трудящихся, которое вели монополии в
союзе с буржуазным государством, не принял соответствующего условиям размаха.
Это относится в первую очередь к забастовочной борьбе. Именно в этой области
социал-реформисты особенно усердно «поработали», насаждая капитулянтские
настроения о невозможности борьбы рабочих за свои права в период экономического
кризиса. «Согласно старому партийному и профсоюзному обычаю,— уверял, например,
О. Вельс,— нельзя вести наступление на капитал при ухудшающейся конъюнктуре.
Нельзя нападать на хорошо вооруженного противника»94. Этот тезис
служил социал-демократическим и профсоюзным лидерам оправданием их
штрейкбрехерства во время ряда стачек 1930—1932 гг.
Чрезвычайное законодательство и массовые выступления трудящихся
Июльский чрезвычайный декрет был для господствующих
классов Германии лишь «пробой пера». Программа крупного капитала,
провозглашенная Союзом германской промышленности в декабре
---------
94
«Vorwarts», 24.VII 1930.
142
Не случайно как раз накануне издания следующего
чрезвычайного декрета, 27 ноября, было созвано заседание Союза германской
промышленности, на котором — впервые в истории этой организации — выступил
рейхсканцлер. Это подчеркнуло более тесную, чем когда-либо, взаимосвязь
крупного капитала и правительства, зависимость последнего от монополий. Брюнинг
подобострастно благодарил «за поддержку, которую мы получили от Союза
германской промышленности в тяжелые моменты прошедших месяцев, за понимание
определенных необходимостей» и т. п.95 Выступивший после него
управляющий делами Союза Кастль с удовлетворением констатировал, что некоторые
существенные требования Союза включены в программу правительства. Другой
представитель крупного капитала, Зильверберг, заявил: «Мы можем сказать, что
правительство впервые за 12 лет (?) серьезно прислушивается ко всем
предостережениям, ко всем пожеланиям и требованиям, которые выдвигаются нами» 96.
Не все представители монополий были настроены столь
лояльно по отношению к правительству. На том же заседании выступил давний
покровитель Гитлера Ф. Тиссен, подвергший политику Брюнинга критике и
требовавший привлечения нацистов к управлению (к этому времени, как мы знаем,
переговоры на эту тему временно зашли в тупик). Тиссен отражал точку зрения
весьма влиятельной группировки крупного капитала, считавшей, что время для
передачи власти гитлеровцам, а тем самым и для перехода к непосредственной
подготовке реванша уже наступило. Но в
Эта программа осуществлялась по частям, и одним из
шагов на пути к ее реализации послужил чрезвычайный декрет правительства
Брюнинга, обнародованный 1 декабря
-----------------
95 «Veroffentlichungen des Reichsverbandes
der deutschen Industrie», N 55. Berlin,
o. J., S. 24.
96 Ibid., S. 21.
97 Cm. «Der Weg zum industriellen Spitzenverband». Darmstadt, 1956, S. 178.
143
![]()
![]() 150
млн. марок налоги, вносившиеся зажиточными,—поземельный, промышленный и др.98
Декрет предусматривал резкое уменьшение государственной дотации в фонд
страхования по безработице. Это значит, что снижались нормы пособий, десятки и
сотни тысяч людей в сокращенные сроки переводились с «обычного» пособия па так
называемое кризисное, т. е. значительно меньшее, а ранее получавшие его
вынуждены были переходить на попечение благотворительности, что означало
беспросветную нищету. Однако и эту жалкую «помощь» декрет сильно урезал,
сократив на 500 млн. марок перечисления из государственного бюджета общинам.
150
млн. марок налоги, вносившиеся зажиточными,—поземельный, промышленный и др.98
Декрет предусматривал резкое уменьшение государственной дотации в фонд
страхования по безработице. Это значит, что снижались нормы пособий, десятки и
сотни тысяч людей в сокращенные сроки переводились с «обычного» пособия па так
называемое кризисное, т. е. значительно меньшее, а ранее получавшие его
вынуждены были переходить на попечение благотворительности, что означало
беспросветную нищету. Однако и эту жалкую «помощь» декрет сильно урезал,
сократив на 500 млн. марок перечисления из государственного бюджета общинам.
3 декабря под непосредственным впечатлением нового
чрезвычайного декрета открылась вторая сессия рейхстага. И вновь лидеры СДПГ
поддержали правительство, «холодным» путем ликвидировавшее ту самую буржуазную
демократию, защищать которую они «поклялись». Социал-демократическая фракция
уберегла Брюнинга от падения, проголосовав против предложения об отмене
декрета. Это сопровождалось попытками «теоретически» обосновать действия
правительства. О. Браун заявил, что «правительство, действительно стремящееся
управлять от имени народа (!) и с целью его предохранения от политического
сумасшествия и развала, обязано перейти к необычным мероприятиям»99.
А председатель рейхстага Лебе утверждал: «В этих условиях чрезвычайный декрет
был... единственно возможным. Это остается в силе и на будущее» 100.
Так социал-реформисты подымали на щит действия правящих кругов, осуществлявших
подкоп под самое здание Веймарской республики. Инициаторов наступления на
рабочий класс это лишь раззадоривало, вдохновляло на дальнейшие «подвиги» в том
же духе.
Не удивительно, что решительный поход на зарплату, на
демократические права, затеянный господствующими классами, вызывал растущий
отпор передовых элементов рабочего класса. Этот отпор мог бы быть гораздо
сильнее, если бы его не сдерживали руководители социал-демократии и профсоюзов;
в частности, размах стачечного движения, по причинам, уже отмечав-
----------------------------------
98 «Verhandlungen des
Reichstags», Bd. 444, S. 255—256.
99 «Vorwarts»,
18.XII 1930. Это как нельзя лучше перекликалось с весьма своеобразным
толкованием правовой стороны дела, данной министром юстиции на заседании
правительства 30 ноября: общественная безопасность будет нарушена, если данный
декрет не будет издан! (DZAP, Reichskanzlei, Kabinettssitzungen, N 752, Bl. 785
386).
100
«Vorwarts», 17.1 1931. Сильнейшим орудием давления на лидеров СДПГ были угрозы
буржуазных партий разорвать коалицию с ними в Пруссии. В весьма грубой форме
эти угрозы высказал Брюнипг на заседании правительства 30 ноября, адресуясь
непосредственно к статс-секретарю прусского премьера Вайзману (DZAP,
Reichskanzlei, Kabinettssitzungen, N 752, Bl. 785 385).
144
шимся выше, в 1930—1931 гг. серьезно отставал от
объективных возможностей.
Тем не менее, и в этот период в Германии не утихали
классовые бои, порой малоприметные, иногда же приобретавшие характер более или
менее крупных социальных конфликтов. Одной из таких кульминаций была забастовка
берлинских металлистов в октябре
Поводом для конфликта послужило намерение
предпринимателей снизить зарплату на 15% 101. Рабочие встретили это
покушение на их жизненные интересы с негодованием. Коммунистическая партия,
вышедшая во время недавних выборов в рейхстаг на первое место по числу
собранных в столице голосов, пользовалась наибольшим влиянием именно на
металлозаводах Берлина. КПГ и руководимая ею Революционная проф-оппозиция {РПО)
и возглавили отпор наступлению капиталистов. Был избран комитет борьбы,
представлявший рабочих 120 предприятий, а также ряда пунктов регистрации
безработных102. 13 октября комитет объявил забастовку, в которой
практически участвовали все предприятия металлопромышленности Берлина — свыше
150.
Забастовка поначалу проходила весьма успешно. По
призыву КПГ и РПО берлинские рабочие отчислили часовой заработок в фонд помощи
стачечникам. Из материалов ЦК Межрабпома видно, что было создано 15 кухонь, где
бастующие могли получать горячие обеды. Межрабпом взял под свое покровительство
10 тыс. детей участников стачки. Материальная стоимость этой помощи составила
200 тыс. марок 103. Металлистам помогали также пролетарии других
промышленных центров Германии, крестьяне, присылавшие продукты, трудящиеся СССР
и т. п.
В ходе забастовки удалось добиться полной солидарности
безработных с бастующими собратьями; безработные даже участвовали в
пикетировании предприятий 104. А ведь именно ссылка
-------------------------------
101 «Geschichte der dutschen Arbeiterbewegung», Bd. 4, S.
269.
102 «Rote Fahne», 7.X
1930.
103 W. Schwartzke. per Kampf der KPD
zur Mobilisierung der Arbeiterklassc gegen den Faschismus.— «Wissenschaftliche
Zeitschrift der Universitat Halle-Wittenberg», 1956/57, N 3, S. 116.
104 «Geschichte der
deutschen Arbeiterbewegung», Bd. 4, S. 269—270.
145
на безработицу, как источник штрейкбрехерства, и была
основой известного тезиса реформистов о «невозможности» бастовать в условиях
кризиса. Берлинская стачка нанесла этому тезису серьезный удар (хотя и не
заставила реформистов отказаться от него).
Как видим, имелись довольно благоприятные возможности
для победы металлистов. Авторитет и влияние РПО среди последних крепли с каждым
днем; она сумела
завоевать на свою сторону 20 тыс. новых сторонников. Но именно это более всего
тревожило реформистов. К тому же стачка совпала со сговором
социал-демократического руководства с правительством Брюнинга, и массовая
забастовка рабочих Берлина, проходившая под большим влиянием революционных
элементов, явно нарушала этот сговор. Не сумев расколоть фронт бастующих
изнутри, лидеры профсоюзов в качестве «единственного законного»
представительства рабочих возобновили закулисные переговоры с предпринимателями
и приложили все усилия, чтобы в кратчайший срок прекратить забастовку. К концу
октября это удалось сделать, когда положение бастующих осложнилось, и
разрешение конфликта было передано в руки третейского суда.
Забастовка металлистов Берлина в октябре
Образование самостоятельных союзов, хотя и отражало
законное возмущение пролетариев предательским курсом профсоюзных бонз, тем не
менее, было ошибочным шагом, ибо в результате этого по существу прекращалась
работа революционных элементов в основном профсоюзе и борьба внутри него против
реформистского руководства 105.
Что касается конфликта в металлопромышленности
Берлина, то его дальнейший ход подтвердил худшие опасения тех, кто предупреждал
рабочих, чтобы они не доверяли заявлениям реформистов о «беспристрастности»
третейских судей. Теперь можно уже и документально доказать, что эти судьи
находились в прямой связи с правительством и принятое ими решение, в общем
соответствовавшее требованиям предпринимателей,
но предусматривавшее не единовременное, а поэтапное снижение
зарплаты (на 8%), было продиктовано правительством, а вернее стоявшими за его
спиной металло-промышленниками.
--------------
105 W. Ulbricht. Zur Geschichte der
deutscheri Arbeiterbewegung, Bd. I, S.
502—503.
146
Уже 29 октября статс-секретарь имперской канцелярии
Пюндер записал в своем дневнике, что председатель третейского суда Брауне «во
всем существенном сохранит вердикт прежнего арбитража, так, чтобы были
удовлетворены потребности хозяйства» (т. е. капиталистов) 106. А
после того как это решение было принято, 8 ноября Пюндер записал: «Большой
успех... В политическом отношении правительство непричастно к этому делу, хотя
я могу здесь доверительно констатировать, что подобный результат, естественно,
был предопределен и обусловлен заранее... То, что необходимо хозяйству,
достигнуто. Удачная операция»107. Пожалуй, нечасто встретишь столь
откровенное и циничное признание того, что буржуазное государство неусыпно
стоит на страже интересов крупного капитала. Вместе с тем признание Пюндера
вскрывает лицо лидеров германской социал-демократии, выдавших
полуторасоттысячный отряд металлистов Берлина на расправу объединенному фронту предпринимателей и
правительства 108.
Тем не менее, забастовки, «не предусмотренные»
реформистскими вожаками, вспыхивали и в последующие месяцы, будучи ответом на
настойчивые домогательства предпринимателей разных отраслей промышленности о
снижении зарплаты или введении сокращенной рабочей недели, что имело для
пролетариев те же материальные последствия. В начале января
Важным моментом массового движения явились стачки
сельскохозяйственных рабочих, наиболее угнетенного и бесправного отряда
германского пролетариата. Стачки эти сочетались с волнениями в Саксонии, Силезии,
на Майне, где крестьяне оказали сопротивление продаже их имущества с молотка. В
Данциге была проведена всеобщая стачка батраков, боровшихся против снижения на
20—30% их и без того
нищенской зарплаты, составлявшей в среднем 40 пфеннигов в час (а в Восточной
--------
106 H. Punder. Politik in der
Reichskanzlei, S. 69.
107 Ibid., S. 72.
108 Буржуазные авторы, даже подвергая критике политику
СДПГ, весьма снисходительны к ее лидерам. Так, Э. Маттиас пишет: «Было бы
несправедливо обвинять в бесчестии или в двуличии этих людей, употреблявших на
собраниях сильные слова, а в конечном счете ограничивавшихся бессильными
протестами» («Das Ende der Parteien 1933», S. 186—187).
147
Пруссии еще меньше) 109. Не прекращалось
брожение крестьян в Шлезвиг-Гольштейне, где движение против продажи земли с
молотка и налогов возглавляла группа смелых борцов, ранее принадлежавших к
националистическому лагерю, но с начала 30-х годов все более сближавшихся с
коммунистической партией и переходивших под ее знамена. Среди них были будущий
известный писатель-коммунист Б. Узе, К. Хейм, Б. фон Заломон и др.
Внутриполитическая борьба весной и летом
Сильнейший кризис перепроизводства, поразивший
Германию, с весны
Репарационный вопрос, как уже отмечалось, был тесно
связан с внутриполитической борьбой. «Контрибуции» — так их называли гитлеровцы
— давали в руки последних острое оружие против тех группировок господствующих
классов, которые находились у власти и вели более осторожную политику. Вместе с
тем Брюнинг и другие представители правящих кругов считали наличие
«национальной оппозиции» и шум, поднимаемый ею вокруг репараций (как и вокруг
иных пунктов Версальского договора), весьма полезным, ибо это будто бы
укрепляло позиции правительства по отношению к странам Антанты 110.
Реваншистские выступления гитлеровцев и их союзников — националистов и других
крайне правых политических групп — служили своеобразным стимулом для
правительства, подталкивая его на
--------------
109 «Rote Fahnе», I7.IV 1931; «Правда», 12, I8.IV 1931.
110 W. J. Helbich. Die Reparationen in
der Ara Bruning. Zur Bedeutung des Young-Plans fur die deutsche Politik 1930 bis 1932. Bеrlin-Dahlem, 1962, S. 76. На заседании имперского
правительства 30 мая, обсуждавшем репарационный вопрос, приводились
доказательства того, что прекращение платежей не принесет сколько-нибудь
существенного облегчения бюджету (DZAP, Reichskanzlei, Kabinettssitzungen, N
735, Bl. 786691),
148
дальнейшие шаги в этом направлении. Создавалось своего
рода взаимодействие, несмотря на внешне весьма нелюбезные отношения.
Особенно наглядный пример этого — события весны
Недовольство, таким образом, было налицо. Но как раз в
это время правящие круги приступили к реализации плана, который соответствовал
одному из центральных требований реваншистов всех мастей, в первую очередь
гитлеровцев. Речь идет о таможенном союзе с Австрией, который должен был стать
решающим шагом к аншлюсу, — именно в этих выражениях характеризовал его министр
иностранных дел Курциус на заседании правительства 16 марта
В первые месяцы
-----------------------
111 ЦПА ИМЛ, ф. 215, оп. I, ед. хр. 107.
112 «Deutsche Allgemeine Zeitung», 20:11 1931.
113 DZAP, Reichskanzlei, Kabinettssitzungen,
N 735, Bl. 786 143.
149
гативой какой-либо одной политической группировки в
Германии; империалистическая идея аншлюса была присуща практически всем
немецким буржуазным партиям, а также СДПГ, чьи руководители, не обинуясь,
заявляли об этом,- Но громче всех требовали аншлюса именно нацисты. Это они
внесли 14 октября
Но вопрос, как и можно, было ожидать, оказался гораздо
сложнее, ибо затрагивал интересы иностранных держав. Как видно из письма
статс-секретаря по иностранным делам Бюлова германскому послу в США Притвицу,
германские империалисты считались с возможностью осложнений международного
характера и с этой целью постарались «придать делу паневропейский облик» 115.
Тем не менее, Франция решительно выступила против
австро-германского таможенного союза, используя не только дипломатические
средства давления на Германию, но и сильнейший финансовый нажим. Хотя Франция
оказалась изолированной (и Англия, и США 116 в соответствии со всей
своей послеверсальской политикой фактически поддерживали Германию в этом
вопросе), принятые ею меры возымели действие. Соглашение о таможенном союзе так
и не вступило в силу — оно было передано на рассмотрение Международного суда в
Гааге, который по прошествии нескольких месяцев признал его противоречащим
международным договорам.
Германский империализм потерпел дипломатическое
поражение: он зарвался, попытавшись реализовать одну из важнейших частей своей
захватнической программы, в то время как у него не было для этого достаточно
сил. К тому же дипломатическая подготовка «операции» была поставлена из рук вон
плохо: Но нас интересуют здесь не столько внешнеполитические осложнения,
явившиеся результатом провала австро-германской таможенной унии, сколько его
внутриполитические последствия. Одно из них заключалось в том, что партии
крайней реакции сумели улучшить свои позиции, нападая на правительство за то,
что оно не добилось международного признания таможенного союза.
---------
114 «Verhandlungen des
Reichstags», Anlagen, Bd. 448, N 68.
115 F. С Stambrook. The German-Austrian Customs
Union Project of
116 25 марта
150
Главное же было в финансовых осложнениях, начавшихся
после быстрого изъятия краткосрочных кредитов 117, предоставленных
Германии французскими банкирами и связанными с ними финансистами некоторых
других стран. Потери в иностранной валюте были колоссальны, и резкое повышение
Рейхсбанком учетного процента только несколько замедлило развитие острого
финансового кризиса, развернувшегося в Германии летом
Естественно, что финансовый крах не был и не мог быть
следствием французского шага. Изъятие кредитов послужило лишь толчком к этому;
глубинной же причиной финансового кризиса был сильнейший кризис
капиталистической экономики Германии, проявлявшийся в разных ее областях.
Первым предвестием близящегося финансового краха было банкротство австрийского
банка «Кредитанштальт», тесно связанного с крупными банками Германии. Их
оборотные средства быстро уменьшались; стремительно таяли и золотые запасы
Рейхсбанка. Между тем внутриполитическая обстановка весной и ранним летом и без
этого была достаточно сложна.
Уход крайне правых из рейхстага создал в парламенте
новое положение. Социал-демократы и коммунисты, располагая вместе 220
мандатами, приобрели большинство, которому противостояло лишь 200 с небольшим
мандатов буржуазных партий. В этих условиях лидеры СДПГ вновь выполнили свой
«долг» перед крупным капиталом. Благодаря их усилиям империалистическая
Германия получила, в частности, серию современных военных кораблей;
социал-демократы постарались, по их собственному признанию, «восстановить в рейхстаге
большинство, благоприятствующее строительству броненосцев»118.
Дебаты по военному бюджету на этой сессии рейхстага
запечатлелись в сознании современников еще и в результате одного эпизода,
прояснившего позицию некоторых лидеров социал-демократической партии. 10 марта
-----------
117 В конце
118 «Vorwarts», 19.IV 1931. Своеобразная
иллюстрация к этому —письмо Г. Мюллера статс-секретарю рейхсканцелярии Пюндеру
от 21 февраля
151
кером» 119. К этому можно лишь добавить,
что Штекер был видным деятелем КПГ и погиб в годы фашизма в гитлеровском
концлагере; что касается Шёпфлина, то он вполне благополучно пережил фашистскую
диктатуру120.
Одобрив в спешном порядке бюджет, лидеры СДПГ
согласились затем с роспуском рейхстага на шестимесячные каникулы. Подобного
перерыва в работах парламента Веймарская республика еще не знала. В сложившейся
обстановке он не мог означать ничего иного, как недвусмысленное разрешение
правительству {это был вынужден признать даже один из главарей
социал-демократов Ф. Штампфер) «править в это время при помощи статьи 48» 121.
«Это было,— пишет Брюнинг,— максимальное ограничение власти парламента...
Без внесения изменений в конституцию была практически осуществлена имперская
реформа в духе возврата к принципам бисмарковской конституции» 122.
Правители Германии, прожужжавшие всем уши разглагольствованиями
о «кризисе парламентского режима», «неработоспособности рейхстага» и т. п., еще
имели наглость издеваться над атрибутами этого режима. Статс-секретарь
рейхсканцелярии Пюндер, дневник которого часто отражает точку зрения наиболее
крупных правительственных деятелей, записал 1 апреля
------------------------------------------------------------------------------
119 «Vorwarts», 11.III 1931.
120 Чрезвычайно характерны детали прохождения военного
бюджета, сообщенные после войны одним из высших чиновников военного
министерства Веймарской Германии, генералом фон дем Буше.
Социал-демократические депутаты, специализировавшиеся на военных вопросах,
посвящались в ход тайного вооружения, методы маскировки расходов на военные
нужды и т. п. Фон дем Буше с удовлетворением отмечает, что они «никогда не
подводили его» («Wehrwissenschaftliche Rundschau», 1958, N 12, S. 705).
121 F. Stamfer. Die 14 Jahre der
ersten deutschen Republik. Karlsbad, 1936, S. 551.
122 И. Bruning, Memoiren 1918—1934, S. 247,
256.
123 H. Punder. Politik in der
Reichskanzlei, S. 94
124 ЦПА ИМЛ, ф. 215, on. 1, ед. хр. 210.
125 «Geseilschaft», 1931, N 7, S. I.
152
Тем не менее, Правление СДПГ, как явствует из архивных
материалов, отдавало себе отчет в том, что согласие на полугодовую отсрочку
созыва рейхстага вызовет недовольство в партии. Отсюда — попытка добиться
согласия Брюнинга па какие-то, пусть показные уступки в этом вопросе. Из записи
беседы лидеров СДПГ с Брюнингом, состоявшейся во второй половине марта
На следующий же день после закрытия парламентской
сессии, т. е. 28 марта, президент издал новый чрезвычайный декрет «О борьбе
против политических эксцессов». Отныне собрания и демонстрации могли быть
распущены (или запрещены заранее) в случае одной лишь угрозы «неподчинения
законам». Декрет предусматривал роспуск организаций, неоднократно нарушавших
эти положения.
По новому закону о прессе значительно затруднялась вся
письменная пропаганда КПГ, которая должна была целиком подвергаться
предварительной цензуре.
Действительную борьбу за политические свободы, за
права рейхстага вели лишь коммунисты 127. Прекрасно зная подлинную
цену буржуазного парламентаризма, который являлся одной из форм классового
господства буржуазии, коммунисты понимали, что стремление ограничить влияние
рейхстага, где представители трудящихся отстаивали их нужды, бьет по интересам
широких масс. В октябре
Такова была обстановка в Германии к лету
----------------------------------
126 «Das Ende der Parteien 1933». S. 207. На заседаниях правительства Брюнинг неизменно
высказывался за низведение рейхстага до положения третьестепенного органа
(DZAP, Reichskanzlei, Kabinettssitzungen, N 751, Bl. 785 068; N 752, Bl. 785
350, 785 485; N 737, BI. 788471; N
753, Bl. 789 254 и др.).
127 «Verhandlungen des
Reichstags», Bd. 444, S, 199.
128 Ibidem.
153
шийся социально-экономических отношений 129.
С каждым декретом, издававшимся Брюнингом, тяготы и лишения для народных масс
возрастали, чуть ли не в
геометрической прогрессии; особенно это относилось к безработным. Правящие
крути неуклонно осуществляли ликвидацию страхования по безработице — одно из
главных требований крупного капитала.
Декрет от 5 июня
Но этим дело не ограничивалось. Весьма чувствительный
ущерб чрезвычайный декрет от 5 июня
Более других пострадали служащие, чье жалование
сокращалось за время кризиса уже дважды; однако новое снижение исчислялось не с
фактического уровня жалования, а с того, какое они получали в
---------------------
129 Даже министр финансов Дитрих на заседании
правительства 29 мая признал, что проект декрета содержит такие «тяготы,
которые способны привести народ к революции» (DZAP, Reichskanzlei,
Kabinettssitzungen, N 735, Bl. 786539—786540.
130 «Was raubt dir die Notverordnung». Berlin, 1931, S. 1.
131 Ibid., S. 3—4.
132 Ю. Кучинский. История условий труда в Германии. М., 1949, стр. 275.
133 «Was raubt dir die
Notverordnung», S. 7.
154
Наконец, декрет взваливал на плечи трудящихся еще 440
млн. кризисного налога. Всего же, по подсчетам Ю. Кучинского, потери трудового
люда Германии составили
1026 млн. марок134. Характерно, что даже правительство в заявлении,
которым сопровождался декрет от 5 июня, вынуждено было признать: «Граница
лишений, которые мы накладываем на наш народ, достигнута» 135. Это,
однако, не помешало Брюнингу по прошествии нескольких месяцев издать новый
аналогичный декрет, который по своей суровости и размерам принесенных им бед
превосходил предыдущий.
Негодование трудящихся было настолько велико, что его
не могли скрыть руководство СДПГ и его пресса. 17 июня «Форвертс» вынужден был
напечатать резолюцию собрания социал-демократических функционеров Берлина,
категорически требовавших отмены декрета. Коммунистическая партия немедленно
потребовала созыва рейхстага, чтобы вынести решение по поводу чрезвычайного декрета.
Это предложение вызвало резкий отпор со стороны правительства, не желавшего в
создавшейся острой ситуации встречаться с народным представительством. На
заседании кабинета 11 июня Брюнинг объявил
о своем намерении подать в отставку в случае созыва рейхстага 136.
Лидеры СДПГ помогли провалить предложение КПГ. Они, правда, как видно из
документов, ставших известными в последние годы, обратились к рейхсканцлеру с
просьбой о разрешении собрать хотя бы бюджетную комиссию парламента, ибо, по их
словам, это могло бы послужить отдушиной для недовольства. Но Брюнинг был
неумолим 137.
«Позади себя,— пишет в своих воспоминаниях бывший
рейхсканцлер, именно в эти дни отправившийся с официальным визитом в Англию,—
мы оставили Германию, где при первом же известии о чрезвычайном декрете должен
был возникнуть ураган огромной силы». И несколько ниже он отмечает, что «из-за
чрезвычайного декрета обстановка в Германии была напряжена до предела» 138.
Действительно, на несколько дней Германия стала ареной голодных походов безработных,
массовых демонстраций и других выступлений, направленных против замыслов
реакции. «Беспорядки», как их называла буржуазная и социал-демократическая
печать, произошли во многих крупных центрах страны, в том числе в Бремене,
Дюссельдорфе, Вуппертале, Мангейме и др. Шторм пролетарского возмущения против
разбойничьего декрета вылился в ряде городов в многочисленные
------------------------------
134 «Finanzpolitische
Korrespondenz», 1931, N 22.
135 «Verhandlungen des Reichstags», Anlagen, Bd- 451, N 1062.
136 DZAP, Reichskanzlei, Kabinettssitzungen,
N 736, Bl. 786 812—786 813.
137 «Das Ende der
Parteien 1933», S. 219.
138 H. Bruning. Memoiren
1918—1934, S. 278—279, 284.
155
стычки с полицией, которые в Гамбурге, например,
длились с 8 по 10 июня. 12 июня развернулись ожесточенные столкновения в Кёльне и Мюльгейме. Из
нелегального, вышедшего вопреки запрещению на четыре недели, номера кёльнской
коммунистической газеты «Социалистише республик» (на обороте этого, теперь
архивного документа эпохи—надпись карандашом: «Да здравствует Москва!») мы
узнаем о неимоверном возмущении трудящихся Кёльна, о столкновениях на улицах
города, о неистовстве вооруженной полиции 139.
Между тем финансовое положение Германии стремительно
ухудшалось. В середине июня Рейхсбанк повысил учетный процент до 7 {для
сравнения отметим, что в США он равнялся в это время 172, в Англии— 272, во
Франции — 2%) 140. Однако и это не возымело успеха: отлив кредитов
нарастал, а с ним близился развал финансов. Росла политическая напряженность. И
тут, как неизменно бывало в тяжелые для германского капитализма моменты, ему
протянули руку помощи американские монополии в лице президента США Г. Гувера,
имевшего и тесные личные связи со многими представителями германской буржуазии.
Речь идет об одногодичном моратории на выплату репараций и военных долгов,
объявленном американским президентом 20 июня
За мораторием последовал ряд совещаний государственных
деятелей крупнейших государств Западной Европы и США, происходивших в Париже,
Лондоне и Берлине, с целью достижения договоренности относительно плана Гувера;
что же касается Брюнинга, Курциуса и других представителей Германии на
----------------------------
139 Фонды ГМР, 7048 Г445— 11 П12.
140 В середине июля учетный процент был вновь повышен до
10.
141 См. В. W. Bennett. Germany
and the Diplomacy of the Financial Crisis 1931. Cambridge, 1962.
142 W. J. Helbich. Die Reparationen in
der Ara Bruning, S. 135.
143 «New York Times»,
17.XII 1931; «Papers Relating to the Foreign Relations of the USA», 1931, vol.
1. Washington, 1946, p. 242.
156
этих совещаниях, то они к тому же надеялись на
получение крупного кредита, который позволил бы, хотя бы временно,
стабилизировать финансовое положение страны. Эти надежды не оправдались.
Эффективность же моратория Гувера, который после долгих препирательств с
Францией все же вступил в силу, оказалась ничтожной. Это весьма наглядно
показало, что отнюдь не репарации являлись причиной злоключений германского
капитализма, как утверждали Гитлер, Гугенберг и их единомышленники.
Кульминационный пункт финансово-банковского кризиса был еще впереди.
В первые дни июля в Германии развернулась целая цепь
банкротств крупных промышленных фирм и банков. Сначала то была текстильная
компания «Нордволле», затем — одно из старейших предприятий страны, завод
Борзига в Берлине, и, наконец, произошло наиболее серьезное событие этого рода
— крах «Дармштадского- и Национальбанка» — одного из двух наиболее мощных
банковских учреждений Германии —и связанных с ним менее крупных банков. По всей
стране еще не улеглись страсти, вызванные чрезвычайным декретом от 5 июня, всю
тяжесть которого массы только начали ощущать на практике, как возникла новая
угроза их жизненным интересам. Банкротство «Данат-банка», парализовавшее всю
кредитную систему страны, еще более ухудшило положение трудящихся. Во многих
местах прекратились выплата заработной платы, выдача пособий безработным. Это
имело место не только в небольших, «маломощных» общинах, но и в таких крупных
городах, как, например, Лейпциг. Правительство предписало временно закрыть все
германские банки, что ощутимо ударило по мелким вкладчикам — торговцам,
ремесленникам, пенсионерам. Эти люди огромными толпами собирались у банков,
тщетно пытаясь получить свои сбережения. Во многих городах полиция разгоняла их
дубинками.
Между тем правительство Брюнинга публиковало новые и
новые чрезвычайные декреты, имевшие целью «оздоровить» обанкротившиеся банки за
счет народных средств, восстановить «равновесие» в интересах определенных
группировок финансового капитала. Подобное «санирование», от которого нередко
выигрывали худшие враги республики, прямые покровители и опекуны нацистов,
такие как Борзиг или совладельцы фирмы «Нордволле» Лахузены, требовало огромных
средств — многих сотен миллионов марок. Это еще более усиливало негодование
масс. Острые столкновения были отмечены во многих городах страны 15
июля, «в «день безработных». В Гельзенкирхене и Эссене, сердце Рура, вновь
произошли ожесточенные стычки с полицией.
Как и в июне, правящие круги были сильно встревожены.
Так, на заседании кабинета 17 июля Брюнинг, собиравшийся
157
отправиться в Париж и Лондон, отдал указания на случай
«организованных беспорядков». Он подчеркнул, что «не следует колебаться, но
поводу принятия энергичных мер», не останавливаясь перед введением
чрезвычайного положения, а генерал Гаммерштейн (командовавший в то время
рейхсвером) окажет министрам всю необходимую поддержку144. Как раз в
ходе своей поездки Брюнинг мог воочию убедиться в силе народного возмущения;
сопровождавший его переводчик рассказывает в своих мемуарах, что специальный
вагон рейхсканцлера все время шел со спущенными шторами во избежание
нежелательных (и опасных) инцидентов в случае, если бы Брюнинг был опознан
публикой на вокзалах 145.
К великому сожалению, благоприятная объективная
ситуация не изменила направления развития страны. Причины этого разнообразны,
они совпадают с причинами поражения демократических сил немецкого народа в
целом. И главное здесь — раскол рабочего класса, несогласованность его
действий, отсутствие контакта с мелкобуржуазными массами. Основная вина за это
лежит на руководстве социал-демократической партии. «Само собой, разумеется,—
писал председатель фракции СДПГ в прусском ландтаге Э. Гейльман,—.что вся
социал-демократия работает над тем, чтобы предотвратить крушение капитализма» 146.
Можно ли удивляться тому, что в буржуазной прессе и в выступлениях политических
деятелей буржуазии нередко проскальзывало злорадство по поводу того, что
революционное движение не приобрело массовых масштабов. Так, Брюнинг, выступая
в октябре
Титаническую работу в массах вела Коммунистическая
партия Германии, но именно в тот момент, о котором идет речь, позиции КПГ были
значительно поколеблены в результате ошибочного шага — участия в плебисците
против коалиционного правительства Пруссии (см. стр. 178—179).
Буржуазии постепенно удалось ограничить масштабы
финансового краха, возобновить выплату зарплаты и пособий, а несколько позднее
и «замороженных» вкладов. Банкротам-промышленникам и банкирам случившееся не
принесло невосполнимых потерь; они были переложены на налогоплательщиков, т. е.
в конечном счете, на трудящиеся массы.
-------------------------------
144 DZAP,
Reichskanzlei, Kabinettssitzungen, N 736,
Bl. 787 053.
145 P. Schmidt. Statist auf diplomatischer Buhne, 1929—1945.
Bonn, 1958.
146 «Das freie Wort»,
1931, N 29.
147 «Verhandlungen des
Reichstags», Bd. 446, S. 2076—2077.
158
По далеко неполным данным, которые, вероятно,
умышленно занижались правительственными органами, объем субсидий банкам и
промышленным компаниям, выданных в течение финансового кризиса летом
Расходуя на нужды монополистического капитала
миллиарды марок, правители Германии из кожи вон лезли, чтобы как-то
замаскировать свои действия, «облагородить» их. Так, Брюнинг, выступая 4
августа
------------------------
148 «Rote Fahne»,
7.VIII 1931.
149 Н. Bruning. Memoiren
1918—1934, S. 408.
150 Помимо субсидий, предоставленных ранее, на заседании
правительства 7 августа было решено выдать Шредеру еще 20 млн. марок (DZAP,
Reichskanzlei, Kabinettssitzungen, N
736, Bl. 787 512). Между тем
пронацистская позиция Шредера
уже в конце
151 DZAP,
Reichskanzlei, Kabinettssitzungen, N 736, Bl. 786 802—786 803.
152 «Vossische
Zeitung», 5.VIII 1931.
159
довищную степень цинизма. В эти месяцы,
признает он, «перед нами открылась такая пропасть коррупции и легкомыслия в
экономике, которая превосходила все мыслимое... У меня сложилось тогда
убеждение, что было бы безответственно выбрасывать все новые сотни миллионов на
спасение концернов от последствий бессмысленной спекуляции»153. Это
ничуть не мешало Брюнингу и его правительству — вплоть до последнего дня его
существования — продолжать субсидирование обанкротившихся банкиров и
промышленников.
Вместе с тем, как пишет Лютер, во что бы то ни стало
надо было избежать впечатления, будто государство, поддерживая банки,
односторонне помогает «капиталистам»154. Это являлось одной из целей
создания государственного органа по надзору за банками, Чтобы уяснить себе,
каков был этот «надзор», достаточно знать, что во главе его правительство
поставило члена Национальной партии Ф. Эрнста — совладельца банка «Дельбрюк,
Шиклер и К°», а также президента крупнейшей электротехнической компании АЭГ.
Централизованные мероприятия, осуществленные летом
----------------------------------------
153 Н. Bruning. Memoiren
1918—1934, S. 369, 445.
Банковским воротилам, о которых он говорит с нескрываемым презрением, Брюнинг
противопоставляет... Гильфердинга: «У этого социалиста я нашел больше понимания
принципов капиталистической банковской системы, чем у всех руководителей
крупных банков вместе взятых» (Ibid., S. 315). Таков был финал автора
«Финансового капитала».
154 Н. Luther, Vor
dem Abgrund, 1930—1933. Reichsbankprasident in Krisenzeiten. Berlin, 1964, S.
232. Ярким образчиком использования
монополиями государства о собственных интересах были выдвинутые «ИГ
Фарбениндустри» летом
155 А. А. Галкин. Германский
фашизм. М., 1967, стр. 58—59.
156 Там же, стр. 346; Г. Л. Розанов. Германия под
властью фашизма (1930—
1939). М., 1961, стр. 42; И, М. Файнгар. Очерк развития германского
монополистического капитала. М., 1958, гл. IV.
160
А в то же время социал-демократические теоретики на
все лады твердили, 'будто расширение государственно-монополистического сектора
означает... вступление на путь социализма. Гильфердинг и его коллеги уверяли,
что кризис «объективно привел к началу общественного контроля на одном из
решающих пунктов капиталистического развития, к величайшему прогрессу» 157.
To была грубая дезориентация: сложившееся соотношение классовых сил не давало
никаких оснований для такого рода утверждений.
Коммунистическая партия резко критиковала вредные
иллюзии, которые сеяли социал-демократические лидеры. Она указывала, что
тезисам, выдвигаемым теоретиками СДГТГ, полностью противоречат и сами факты, и
даже недавние правильные высказывания социал-демократической прессы поданному
вопросу. Не далее, как в первомайском номере центрального органа СДПГ,
известный нам Декер писал: «Мы слишком хорошо знаем, что влияние государства на
экономику по своим целям и последствиям может быть и чисто капиталистическим и
в большинстве случаев все еще бывает именно таким» 158. А уже после
рассматриваемых здесь событий влиятельная Лейпцигская газета
социал-демократической партии признавала: «Когда государство стало участником
экономической деятельности, оно стремилось при этом не устранить частную
собственность, а поддержать ее» 159.
Как раз в разгар финансового кризиса и вызванного им
сильнейшего .возбуждения масс происходили подготовка плебисцита с целью
смещения прусского правительства (назначенного на 9 августа
----------------------
157 «Jahrbuch der Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands», 1931, S.
5.
158 «Vorwarts», I.V 1931.
159 «Leipziger Volkszeitung», 1.X
1931.
Борьба КПГ за единый
рабочий фронт против фашизма
Результаты выборов 14 сентября
Коренное отличие политики КПГ от курса руководства
социал-демократии в еще большей степени, чем это было до сентябрьских выборов,
состояло в том, что коммунисты видели опасность фашизма во всем многообразии.
«И нам, коммунистам,— указывала «Роте фане»,— не безразлично, какое
правительство находится у власти. Мы знаем: если Браун и Вентиг 160
грубо подавляют пролетариат, то Фрик и Геббельс будут делать это в десять раз
более бесчеловечно. Но... мы и весь германский рабочий класс не верим <в
спасение от фашизма при помощи Гинденбурга, Тревирануса и Шиле» 161.
Коммунисты на десятках примеров доказывали массам, что те, кто призывают к
поддержке правительства Брюнинга, на деле помогают прокладывать дорогу Гитлеру.
К этим элементам, как мы знаем, принадлежали лидеры
СДПГ, Ясно, какие опасности для германского рабочего класса, для всего
немецкого народа таились в том, что крупнейшая политическая партия страны не
играла той роли в борьбе против сил крайней реакции, вознамерившихся повернуть
колесо истории вспять, какую она должна была бы сыграть. Тем большая
ответственность ложилась на коммунистическую партию, подлинный авангард
немецкого пролетариата, единственную по-
---------------------------------------
160 Социал-демократ, в течение нескольких месяцев
161 «Rote Fahne», 22.Х 1930.
162
логическую силу страны, правильно определившую
классовую природу фашизма и объявившую ему беспощадную борьбу.
Анализ коммунистами роли гитлеризма как орудия
капиталистических, кругов, стремившихся к войне, неизмеримо превосходил по
своей точности многочисленные оценки, которые давали ему теоретики СДПГ и
левобуржуазные круги. Положения постановления ЦК КПГ от 4 июня
К ним относится, в частности, резолюция Политбюро ЦК
КПГ от 24 октября
Много внимания уделено в указанной резолюции позиции
партии по отношению к непролетарским слоям населения. «Необходим, в частности,
решительный поворот к миллионным массам служащих,— говорилось в документе.—
Если работа партии в этой области не будет улучшена, возникнет опасность того,
что эти массы попадут в объятия фашистов» 163. Мы видим здесь весьма
своевременную постановку вопроса о средних слоях: если партия пролетариата не
сумеет завоевать их на свою сторону, они сделаются союзниками реакции. К
сожалению, реализовать это важное положение на практике в полном объеме партия
немецких коммунистов не сумела.
Другой документ, также относящийся к октябрю
--------------------------
162 Фонды ГМР, 6291/2а Д445— 11П1, стр. 5.
163 Фонды ГМР, 6291/2а, Д445—11П5, стр. 7.
164 Institut
fur Marxismus-Leninismus beim ZK der SED, Archiv, 10/146, Bl. 95
163
результаты выборов по каждому населенному пункту,
чтобы установить, на какие социальные слои опираются нацисты, и развернуть
планомерную разъяснительную работу в этих слоях.
После выборов в деятельности Коммунистической партии
Германии еще более важное место заняли разоблачение гитлеровской идеологии,
раскрытие ее сущности и назначения. Этому вопросу было посвящено циркулярное
письмо секретариата ЦК КПГ от 15 ноября
О том же шла речь и в ряде других документов. Партия
все дальше отходила от известного лозунга Г, Неймана: «Бейте фашистов, где их
встретите!», исключавшего идеологическую борьбу против фашизма. В газетах и
журналах КПГ, в издававшихся ею пропагандистских брошюрах, в листовках
коммунисты разоблачали звериное лицо гитлеризма, срывали с него маску
демагогии, разъясняли массам, что Гитлер — это война. Руководители и
функционеры, рискуя жизнью, шли на нацистские собрания, если им представлялась
возможность выступить там и сказать слово правды введенным в заблуждение
труженикам.
Но самый главный вывод и самый важный лозунг партии в
связи с резким усилением фашистской угрозы сводился к необходимости
установления единого фронта пролетариата. | В своем первом воззвании по поводу
итогов выборов 14 сентября
--------------------
165 Фонды ГМР, 30249/49 Д445—11А, стр. 1.
166 «Rote Fahne», 16.IX 1930.
164
сти консолидации сил рабочего класса. «Веление времени
— пролетарский единый фронт»,— подчеркивал он167.
Только коммунистическая партия призывала всех,
противников фашизма оказать отпор наглому террору коричневорубашечников. После
одного из наиболее зверских преступлений нацистских банд «Роте фане» писала:
«Мы будем, как прежде, дискутировать с каждым трудящимся — приверженцем
нацистов. Мы будем просвещать его. Мы будем направлять его с ложного пути в
лагерь революционной освободительной борьбы пролетариата. Но мы говорим
красному Берлину: вы, рабочие на предприятиях, вы, безработные на биржах труда,
вы, служащие и мелкие буржуа, сплотившись, обладаете такой огромной боевой
силой, что вы можете одним ударом изгнать фашистскую чуму с улиц Берлина» 168.
Естественно, что этот призыв распространялся не только
на Берлин, а главное, он не оставался только призывом.(Рассматриваемые нами
годы были периодом, когда немецкие пролетарии, руководимые коммунистической
партией, в жестокой борьбе против гитлеровских банд явили прекрасные образцы
мужества и решимости преградить фашистам путь к власти. Именно в этой борьбе, в
отпоре кровавому нацистскому террору чаще всего стихийно складывалось единство
пролетарских рядов, к созданию которого неутомимо звала массы КПГ, преодолевая упорное
сопротивление социал-демократических заправил. Сразу же после выборов, когда
гитлеровцы, опьяненные успехом, умножили свои наглые нападения на
рабочих-антифашистов, ЦК КПГ примял меры, чтобы сделать отпор фашистским
бандитам более организованным. ЦК рекомендовал создать сильный отряд
антифашистской самообороны на каждом предприятии, на каждой бирже труда 169.
И усилиями коммунистов на многих заводах, фабриках, шахтах, биржах труда такие
отряды возникли, причем нередко, несмотря на запреты руководства СДПГ, в них
участвовали и рабочие социал-демократы.
На этом, первом этапе борьбы против наступления
крайней реакции воплощением поставленной ЦК КПГ задачи стал Союз борьбы против
фашизма, основанный осенью
-------------
167
Характерно, что именно за раздел о едином фронте номер «Rote Fahne» был
конфискован (правда, статья Тельмана была все же распространена) («Rote Fahne»,17.XII 1930).
168 «Rote Fahne», 3.II
1931.
169 Institut fur Marxismus-Leninismus beim ZK der SED,
Archiv, 10/146, Bl. 97.
170 Фонды ГМР, 6291/6 Д445—11Ш.
165
в конце сентября массовое сборище в Берлине.
Пролетарии германской столицы были возмущены этим, и КПГ назначила на 28
сентября — день, намеченный нацистами,— антифашистскую манифестацию. Убоявшись
открытого столкновения, гитлеровцы отменили свой слет, рабочие же провели
многотысячную демонстрацию, положившую начало существованию новой организации |71.
Первый крупный смотр сил Союза борьбы против фашизма
состоялся в Берлине 6 декабря
Новая организация существенно помогла антифашистам в
отражении атак фашистского сброда. А в условиях, когда бесчинства гитлеровцев
не встречали почти никакого сопротивления со стороны властей, потребность в
активной самообороне возрастала буквально с каждым днем. В течение
Типичны для разбойничьих методов, которые применяли
фашисты на своем пути к власти, события в берлинском пригороде Бернау в
середине октября
Кровь антифашистов обильно обагряла улицы германских
городов и деревень. Новая полоса разнузданного террора прокатилась в конце
ноября
----------------------
171 «Правда», 29.IX 1930.
172 ЦГАОР, ф. 4459, on. 2, ед. хр. 554.
173 «Geschichte der
deutschen Arbeiterbewcgung», Bd. 4, S. 268.
174 «XI пленум
Исполкома Коминтерна. Стеногр. отчет»,
т. I. M., 1932, стр. 145. 175 «Geschichte
der deulschen Arbeiterbewegung», Bd. 4, S. 268.
176 «Berliner Tageblatt», I8.X 1930.
166
(Саксония) двух коммунистов; никто из преступников
даже не был арестован. 11 декабря жертвой нацистских убийц пал рабочий в
Рейдте, а в рождественскую ночь — двое берлинских рейхсбаннерцев. Огромное
возмущение пролетариев Берлина вызвали подлые убийства нескольких антифашистов
в конце января - начале февраля
Можно не сомневаться, что гнев рабочего класса,
настроенного в своем подавляющем большинстве решительно антифашистски, снес бы
нацистские банды с лица земли, если бы те не находились под охраной полиции.
Фактов, иллюстрирующих это, сколько угодно. Не только немецкую печать, но и
прессу других стран облетели весной
В Пирмазенсе после очередного столкновения рабочих с
нацистами полиция арестовала 220 рабочих, тогда как все фашисты остались на
свободе.
Демократические организации, прежде всего КПГ, главная
сила сопротивления капиталистическому произволу, фашистскому разбою,
действовали в обстановке нараставших репрессий. Реакция уже не ограничивалась
карами против отдельных представителей революционного движения. Правящие круги
ставили себе целью лишить трудящихся важнейших политических свобод. Участились,
к тому же став более суровыми, запреты демократической прессы.
Так, в середине июля
------------------------------
177 «Berliner Tageblatt», 12, 14.11 1931.
178 «Frankfurter Zeitung», 11.XI 1930.
179 «Правда», 18.VII 1931.
167
Что касается нацистских сборищ, то они чаще всего не
только разрешались, но и охранялись полицией.
В необычайно трудных условиях КПГ совершенствовала
свою основную линию на борьбу против фашистской угрозы. Важные решения в этой
области принял пленум ЦК КПГ, состоявшийся в январе
«В центре всей нашей борьбы должна находиться борьба
против гитлеровской фракции фашизма — национал-социалистов»,— говорил В.
Ульбрихт 182. Вместе с тем коммунисты повседневно доказывали, что
существующее правительство является переходным к открытой фашистской диктатуре,
что не союз с ним, а лишь сплочение пролетариата против всех разновидностей
реакции может помешать превращению Германии в фашистское государство. Эти
выводы приобретали все большую убедительность с течением времени, по мере
появления новых чрезвычайных декретов и роста безнаказанности гитлеровских
банд. В марте
-------------------------
180 Фонды ГМР, 10439/45 Д445—11 Щ.
181 См. Е. Thalmann. Im Kampf gegen die
faschistische Diktatur. Berlin, 1932, S. 15.
182 «Rote Fahne», 17.XII
1930.
183 «Rote Fahne», 18.Ш 1931.
168
Но еще более важный призыв к сплочению прозвучал в
речи Э. Тельмана, произнесенной И июня
Как и на все предыдущие, так и на это предложение КПГ
не получила от лидеров социал-демократии ответа. Впрочем, своеобразным
«ответом» были бесчисленные антикоммунистические выпады, о которых шла речь
выше, массовое исключение коммунистов из профсоюзов, запреты сотрудничать с
ними в отпоре гитлеровскому террору. Борьбу с фашистскими головорезами
социал-демократические главари нередко изображали как «личное дело» нацистов и
коммунистов, утверждая, будто вина за преступления «в одинаковой степени падает
на обе стороны»185. А вот что говорилось в одном из циркуляров
правления «Рейхсбаннера» местным организациям от 13 марта
Коммунистическая партия уделяла первостепенное
внимание работе среди безработных, число которых непрерывно росло, вносила в
рейхстаг, ландтаги и местные собрания многочисленные предложения, имевшие целью
улучшить положение безработных. Наиболее важным шагом КПГ в этом отношении был
план обеспечения работой, опубликованный в конце мая
--------------------------
184 Е. Thalmann. Kalastrophe oder Sozialismus.
Unser Kampfruf gegen die Notverordnung.
Berlin, 1931, S. 23.
185 «Vorwarts», 27.V 1930.
169
План предусматривал и источники финансирования
программы общественных работ: оно должно было осуществляться за счет сокращения
прибылей монополистов и банкиров, колоссальных доходов крупных чиновников и
пенсионеров из высшей бюрократии и генералитета, усиления борьбы против
уклонения от уплаты налогов на капитал и против «бегства капитала», т. е.
умышленного перевода средств за границу. Важной статьей финансирования должно
было, согласно предложению КПГ, стать сокращение расходов на военные нужды и на
содержание полиции. Коммунисты подчеркивали, что реализация этого плана могла
быть только результатом упорной борьбы против господства монополий.
Анализ избирательных успехов нацистов свидетельствовал
о том, что они все больше подчиняют своему влиянию деревню. Стремясь
воспрепятствовать этому, КПГ усиливала работу среди трудящихся крестьян; при
этом приходилось преодолевать чрезвычайно большие трудности. В мае
---------
186 «Rote Fahne», 29 V
1931.
187 «Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung», Bd. 4, S. 550-551.
170
зывала, что трудящиеся крестьяне могут добиться улучшения
своего положения лишь в борьбе, рука об руку с рабочим классом 188.
КПГ прилагала огромные усилия, чтобы мобилизовать
германский рабочий класс на борьбу против классового врага, вытравить у рабочих
дух пассивности, неверия в свои силы — следствие проповеди реформистских
деятелей. Компартия смело повела массы на бой против смертельной угрозы,
связанной с усилением фашистской партии. В обстановке жестоких полицейских
репрессий КПГ вела неутомимую работу, стремясь вызволить немецкий народ из
трясины, в которую вовлек его капиталистический строй. Вот почему
коммунистическая партия стала средоточием лучших, молодых сил немецкой
культуры. В ее ряды вступили или находились под ее большим идейным влиянием
такие крупные художники, как Б. Брехт, Э. Пискатор, Ф. Вольф, К. Тухольский и
многие другие.
Но плоды этой энергичной деятельности были бы
значительно большими, если бы не ошибки сектантского характера, которые явились
результатом механического распространения лозунгов и задач периода
послеоктябрьского революционного подъема на совершенно иные условия начала 30-х
годов. Отсюда вытекала неправильная стратегическая установка на
непосредственную подготовку пролетарской революции, хотя необходимых
предпосылок для этого в Германии начала 30-х годов не имелось 189.
В те годы, указывает В. Ульбрихт, «оценка положения и
постановка насущных боевых задач КПГ были связаны с лозунгом диктатуры
пролетариата, создания Советской Германии, как актуальной задачей190.
Это было неверно. В условиях борьбы против фашизма и военных приготовлений
ближайшей задачей была борьба за демократические права трудящегося народа» 191.
----------------------
188 Ibid., S. 293.
189 W. Pieck. Zur Geschichte der
KPD. 30 Jahre Kampf. Berlin,
1949, S.
190 Результаты выборов 14 сентября
191 W. Ulbricht. Zur Geschichte der
deutschen Arbeiterbewegung, Bd. I., S. 602. Ветеран
рабочего движения Макс Рейман, отмечая, что из ленинского учения вытекала
«необходимость защиты, как отдельных демократических прав, так и конституции Веймарской
республики, чтобы на этой основе предложить СДПГ и профсоюзам защищать Веймар в
качестве непосредственной цели единства действий», подчеркивает: «Эту
необходимость мы тогда еще не поняли, несмотря на то, что мы со всей
решительностью выступали за права трудящихся» («Проблемы мирз и социализма»,
1969, № 1, стр. 23).
171
Между тем ленинизм придает огромное значение отысканию
«формы перехода или подхода к пролетарской революции» 192. Конечно,
предпринимались поиски таких форм, которые отвечали бы обстановке. Об этом
свидетельствует, например, лозунг народной революции, выдвинутый январским
пленумом ЦК КПГ
После сентябрьских выборов КПГ, сознавая грозный рост
фашистской опасности, в то же время была далека от преувеличения масштабов этой
опасности, как случилось с представителями левобуржуазных и социал-демократических
кругов. Безусловно справедливым было указание, содержавшееся в циркулярном
письме секретариата ЦК КПГ от 18 сентября
Неправильным был, однако, тезис, будто «решающей
особенностью итога выборов является колоссальный избирательный успех КПГ...
Успех нацистов... несравним с поступью революционного пролетарского массового
движения». А далее следовал вывод, что «в новом рейхстаге партии, открыто
выступающие за капитализм, находятся в меньшинстве»; это «сигнализирует о
быстрой потере массовой базы господствующей капиталистической системой» 195.
Никак нельзя утверждать, что эта точка зрения была
устойчива; в том же циркулярном письме от 18 сентября
Подобные противоречия были нередки в то время. В
передовой статье «Роте фане», посвященной результатам выборов
--------------------------------------
192 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т.
41, стр. 77.
193 «Geschichte der deutschen
Arbeiterbewegung», Bd. 4, S. 288.
194 Фонды ГМР, 6191/6 Д445— ПА, стр. 1.
195 Фонды ГМР 6191/6 Д445—ПА, стр. 1, 3.
196 Там же, стр. 3.
172
14 сентября
«Вот факты,— говорил позднее Э. Тельман,—
иллюстрирующие, например, недооценку национал-социалистического движения: т.
Нейман заявил по поводу крупного успеха национал-социалистов 14 сентября
Недооценка грозной опасности со стороны фашистской
клики Гитлера202 сочеталась с утверждениями, что уже правительство
Брюнинга является олицетворением фашистской диктатуры. Одним из документов, в
которых была изложена эта точка зрения, является резолюция Политбюро ЦК КПГ о
современном положении, принятая на заседании 5 декабря. Исходным пунктом ее
были политические события последнего времени в Германии, которые, как
говорилось в резолюции, «привели к далеко идущему изменению ситуации».
Наступило окончательное банкротство буржуазии, и она будто бы более не в
состоянии обеспечивать свое классовое господство буржуазно-демократическими методами
и предотвратить наступление пролетарской революции. После этого следовал вывод,
что «немецкая буржуазия перешла к новой форме правления... Фашизм как «метод
непосредственной диктатуры буржуазии» (программа Коминтерна — Л. Г.) стал
господствующей государственной формой. Полуфашистское правительство Брюнинга
превратилось в фашистское правительство, в первое правительство фашистской
диктатуры. Характер государственной власти уже фашистский»203.
-----------------------
197 «Rote Fahne», 16.IX 1930.
198 «Geschichte der deutschen
Arbeiterbewegung», Bd. 4, S. 303.
199 «XII пленум Исполкома Коминтерна», т.
III. M., 1933, стр. 111—112.
200
Фонды ГМР, 6291/2А, Д445— 11П1, стр. 4.
201 «Rote Fahne», 24.Х 1930.
202 W. Pieck. Der neue Wee zum
gemeinsamen Kampf fur der Sturz der Httlerdiktatur. Berlin, 1957, S. 24—27.
203 Фонды ГМР, 18243/13 Д445—ПА, стр. 1.
173
Это категорическое суждение сопровождалось лишь одной
единственной оговоркой: «Это отнюдь не означает, что фашистская диктатура уже
достигла законченного, полностью созревшего уровня; она находится в своей
начальной фазе. Диктатура будет принимать разные формы, но все они —
фашистские». Заключительный вывод гласил: «Немыслима никакая иная ликвидация
фашистской диктатуры, кроме ее свержения посредством пролетарской революции,
смены ее диктатурой пролетариата, Советской Германией... Свержение фашистской
диктатуры равнозначно свержению капитализма, классового господства буржуазии
вообще» 204.
Те же положения содержались в циркулярном письме
секретариата ЦК КПГ от 19
декабря
Таким образом, совершенно справедливый в своей основе
тезис о порочности социал-демократической политики «меньшего зла», о реакционности
стоявшего тогда у власти правительства был под влиянием второстепенных, в
конечном счете, событий заменен ошибочным положением о том, что фашистская
диктатура уже установлена. Такая точка зрения отражала позицию весьма
влиятельной тогда в партии группы Неймана, в своем сектантстве нередко
доходившей до абсурда. «Из одной крайности,— говорил Э. Тельман на XII пленуме ИККИ,— Нейман впал в
другую. В декабре
В цитированном выше документе КПГ фигурировал термин
«социал-фашизм». То была отнюдь не случайная обмолвка, а часто применявшееся в документах и
пропаганде КПГ обозначе-
-------------------------------------
204 Фонды ГМР,
18243/13 Д 445—11 А, стр. 2, 3.
205 Указанные решения были приняты без участия
председателя партии Э. Тельмана («Geschichte der deutsehen Arbeiterbewegung»,
Bd. 4, S. 283).
206 Фонды ГМР, 6191/6 Д445—11 А, стр. 4.
207 «XII пленум Исполкома Коминтерна», т. Ш, стр. 112.
174
ние социал-демократической партии. Господствующей была
точка зрения, что фашизм в Германии имеет две фракции: национал-фашистскую
(Гитлер, Гугенберг) и социал-фашистскую. «Коммунистическая партия,— указывает
В. Ульбрихт,— направляла главный огонь прежде всего не против нацистской партии
и тех, кто подготовлял гитлеровскую диктатуру... а против социал-демократии как
партии, не проводя достаточного различия между социал-демократическим
руководством и рядовыми членами партии»208. Так, в циркулярном
письме от 18 сентября
Наиболее опасными среди «социал-фашистов» считались
левые социал-демократы214. Листовка «10 вопросов вождям «левых»
социалистов», изданная в
-----------------------
208 См. W. Ulbricht. Zur Geschichte der deutschen
Arbeiterbewegung, Bd. I, S. 455.
209 Фонды ГМР, 6191/6 Д445—ПА, стр. 3. Правда, в другом
циркулярном письме (от 15 ноября того же года) было сказано: «Фашизм остается
главным врагом партии в классовой борьбе, социал-демократия — главным врагом внутри пролетариата» (там же,
30249 Д445—ПА, стр. 1).
210 См. W. Ulbricht. Zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung Bd. I, S. 455.
211 Фонды ГМР, 6191/6 Д445—ПА, стр. 2.
212 Там же, 90249/210, Д445—НА, стр. 4.
213 «Geschichte der deutschen
Arbeiterbewegung», Bd. 4, S. 313.
214 Ibidem.
215 Фонды ГМР, 50180/13 Д445—11П5.
175
против предательских центристских вождей типа
Зейдевица, Розенфельда и К0»216. Безусловно, в воззрениях
левых социал-демократов, в некоторых их практических шагах были стороны,
нуждавшиеся в критике, но не «на уничтожение», а в дружественной, исходящей из
стремления найти общий язык с теми, кто был наиболее близок к КПГ (а в дальнейшем, правда,
после страшного опыта фашистского режима, пришел к коммунизму). На профсоюзную
работу КПГ неблагоприятное влияние оказали решения V конгресса Профинтерна
осенью
Особенно наглядно видно это на примере Единого союза
металлистов Берлина, основанного в результате октябрьской стачки
---------------------------
216 Фонды ГМР 7454/26 Д445-11 Щ, стр.20.
217 «Geschichte der deutschen
Arbeiterbewegung», Bd. 4, S. 274;
218 «Geschichte der deutschen
Arbeiterbewegung», Bd. 4, S. 274. W. Ulbricht. Zur Geschichte der
deutschen Arbeiterbewegung, Bd. I, S. 502-503.
219 W. Pieck. Der neue Weg zum
gemeinsamen Kampf…, S. 53.
220 «Geschichte der deutschen
Arbeiterbewegung», Bd. 4, S. 275.
176
Реальная действительность показала, однако,
преждевременность этих намерений. Из отчета о положении союза, относящегося к
апрелю
Некоторые из перечисленных выше ошибок уже в то время
являлись предметом критики со стороны компартии и ее руководящих деятелей. Так,
в своем выступлении на XI пленуме ИК.КИ Э. Тельман сказал: «Если мы хотим вести
правильную политику в борьбе против фашизма и социал-фашизма, мы не должны
проглядеть различия между ними»222. Это предупреждение было особенно
важно потому, что нигилизм по отношению к противоречиям между буржуазией и
социал-демократией, а также в самом буржуазном лагере — между отдельными его
группировками — пустил глубокие корни. На следующем пленуме ИККИ, где Э.
Тельман выступал с докладом, он остановился на вопросе о реформистских
профсоюзах223. Процитировав статью, опубликованную «Роте фане» в
августе
--------------------------
221 «Funfundsiebzig Jahre Industrigewerkschaft,
1891 bis 1966». Frankfurt a/M., 1966, S. 444.
222 «XI пленум Исполкома Коминтерна», т. I, стр. 553.
223 «XII пленум Исполкома Коминтерна.
Стеногр. отчет», т. I. M., 1933.
224 Там
же, стр. 58.
225 «Rote
Fahne», 26.VII 1931.
177
В статье, опубликованной в последнем номере
теоретического органа КПГ за
Этот плебисцит был затеян нацистами и их союзниками
еще в конце
Это была совершенно ясная позиция. Она исключала
какую-либо общность с фашизмом, хотя КПГ была резко враждебно настроена по
отношению к прусским властям, проводившим антинародную политику. В соответствии
с этим КПГ не только не участвовала в плебисците, но вела против него борьбу, В
циркулярном письме от 13 апреля
----------------------------------------
226 «Internationale», 1931, N 11/12, S. 500.
227 В. Пик. Отчет
о деятельности Исполнительного комитета Коммунистического Интернационала. М.,
1935, стр. 36.
228 Фонды ГМР, 30225/718 Д445— 11ГД, стр. 4, 5.
229 Э. Тельман. Задачи
народной революции в Германии. М., 1959, стр. 89.
230 Фонды ГМР,
6750/6 Д445—11A, стр. 3.
178
ция полностью сохранялась. Но вот 27 июля ЦК КПГ
адресовал всем организациям партии обращение, предусматривавшее поддержку
плебисцита. Это мотивировалось изменившейся ситуацией, хотя сколько-нибудь
убедительных доказательств не приводилось. «Пусть теперь социал-фашистские
вожди правой и «левой» окраски пытаются внести замешательство при помощи
сумасбродного аргумента — «коммунисты рука об руку с нацистами и Стальным
шлемом». Социал-демократическая партия более не добьется этим успеха ни у
одного рабочего». Ставился лозунг — завоевать в ходе кампании в пользу
плебисцита десятки тысяч новых членов партии 23!. Результаты были,
однако, прямо противоположными. Не только не осуществились надежды на
привлечение десятков тысяч новых сторонников, но партия потеряла не один
десяток тысяч приверженцев232.
В общем развитии КПГ плебисцит, к счастью, был лишь
отклонением, не характерным для всего существа ее деятельности на благо народа.
Партия шла по пути преодоления подобных ошибок, хотя это и проходило с трудом.
Обострение политической обстановки в стране осенью
Подтверждения того факта, что с конца
----------------------
231 Фонды ГМР, 7093/13, Д445-11Ж. стр. 3, 4.
232 «Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung», Bd. 4, S.
300—303.
233 «Правда», 7.Х1 1931.
234 «Rote Fahne», 3.XII 1931.
179
вых убийц, а также широкой идеологической работы среди
нацистов, членов «Стального шлема» и т. п. В донесении говорилось:
«Арбайтерцейтунг» регулярно сообщает о больших успехах движения за единый
фронт. Согласно наблюдениям полиции, КПГ действительно сумела в некоторых
местах привлечь социал-демократических и беспартийных рабочих к своим
начинаниям» 235.
Примерно к тому же времени относится сообщение
полицейских властей Тюрингии на заседании руководителей разведывательных
ведомств земель в имперском министерстве внутренних дел. Здесь шла речь об
обращении тюрингенской организации КПГ к членам СДПГ и «Рейхсбаннера»,
опубликованном 11 ноября
В конце ноября
Это было важной прелюдией к наступающему
--------------------------------------
235 Institut fflr
Marxismus-Leninlsmue beim ZK der SED, Archiv, N 10/152, BJ. 68, 69.
236 Ibid., N 10/519, Bl. 33—36.
237 «Rote Fahne», 29.XI 1931.
238 Ibidem.
180
консолидация сил
КРАЙНЕЙ РЕАКЦИИ
Идеологическая помощь фашизму
Одна из весьма распространенных в буржуазной
историографии уловок состоит в отрицании того, что гитлеризм и в идейном
отношении является в определенной степени развитием идеологии германского
империализма, сформировавшейся в предшествующие десятилетия. Буржуазные авторы,
особенно западногерманские, хотели бы доказать, будто принцип «фюрерства»,
зоологический шовинизм и расизм, крайний антидемократизм и другие характерные
черты нацистской идеологии были чуть ли не чужеродным телом для идейной жизни
Германии, резко противоречили традициям ее развития. Это — попытка с негодными
средствами, не только разоблачаемая демократически настроенными историками 1,
но и вызывающая возражения со стороны некоторых буржуазных ученых, не могущих
мириться со столь грубой фальсификацией.
На деле преемственность нацистской идеологии по
отношению к различного рода учениям и доктринам из идейного арсенала
германского империализма, а также к воспринятым от более дальней традиции
реакционного пруссачества несомненна и в достаточной степени доказана наукой.
При мало-мальски непредвзятом подходе это было ясно и до прихода Гитлера к
власти; поэтому один американский бизнесмен, находившийся осенью
------------------
1 См., например, J. Hindels. Hitler war kein Zufall. Wien,
1962.
2 «New York Times», 16.IX 1930.
181
ской идеологии, оказывая тем самым нацизму поддержку в
жизненно важном для него деле.
Главным условием, обеспечивавшим возможность идейного
подчинения гитлеризмом значительных масс, в первую очередь мелкой буржуазии,
была широкая распространенность национализма, упорно и методично насаждавшегося
правящими буржуазными партиями. Со школьных лет (а особенно на университетской
скамье, если речь шла о более обеспеченных слоях) каждый немец обрабатывался в
националистском духе, в духе известного гимна «Германия превыше всего!» Основой
воспитания было в подавляющем большинстве случаев превознесение «воинских
доблестей», привитие навыков безоговорочного послушания вышестоящим — как в
армии, почитавшейся образцом для всего, цветом нации.
После разгрома Германии в
В числе носителей национализма одно из главных мест
принадлежало чиновничеству— этой традиционно консервативной касте, которую
Ноябрьская революция оставила нетронутой и которая являлась постоянной
питательной средой для различных антидемократических замыслов и
антиреспубликанских заговоров4. Но в канун установления фашистской
диктатуры нацистская идеология едва ли не наибольшее распространение
----------------------------------
182
получила в совсем ином общественном слое, и по
возрасту, и — в немалой степени— по своему социальному положению резко
отличавшемся от чиновничества. Речь идет о студенчестве, оказавшемся уже в
Врага № 1 студенческая масса видела в демократии —
даже в таком урезанном виде, как в Веймарской Германии. Причины подобной
настроенности лежат не только (а может быть — и не столько) в реакционной
традиции германских университетов с ее слепо верноподданной, готовой за
бесценок продаться властям профессурой. Они кроятся и в социально-экономических
условиях, в которых оказалась немецкая молодежь вообще, молодые люди
интеллигентных профессий в особенности. Перепроизводство в этих профессиях
наметилось уже до экономического кризиса, но последний придал и этому
перепроизводству поистине катастрофические размеры. Лица, окончившие высшие
учебные заведения, практически не имели возможности устроиться по
специальности; они вынуждены были браться за «черную» работу (если повезет)
или, как правило, пополняли собой армию безработных «академиков» (так в
Германии называли людей с университетским образованием), насчитывавшую
несколько сот тысяч человек.
По своему социальному происхождению то были главным
образом представители зажиточных слоев населения и мелкой буржуазии; выходцы из
«низших классов» являлись среди тогдашнего студенчества в общем исключением.
Подобный состав в
-------------------------
5 По
некоторым данным, уже з
6 «Deutsches Geistesleben
und Nationalsozialismus. Einc Vortragsreihe der Universitat Tubingen». Tubingen, 1965, S. 46. Характерно, что в конце
183
соединении с реакционным влиянием профессуры, для
которой республика была чуть ли не исчадием ада, явился основой быстрого
распространения нацистской идеологии7. Молодые люди, желавшие
принести пользу обществу, страдали от тяжелых пороков существующего социального
строя, но не понимали их истинных причин и ослепленные злобой становились
добычей ловких демагогов-нацистов. Объяснение последних казалось весьма
правдоподобным в своей простоте и популярности: Германия — жертва «еврейского
заговора», и его ликвидация избавит немецкий народ от цепей Версаля, а значит и
от причин экономической разрухи. Не только социал-демократические, но и
буржуазные деятели, придерживавшиеся «политики выполнения» обязательств,
вытекавших из поражения Германии в
Впитав в себя набор подобных, с позволения сказать,
идей, большинство германских студентов еще до победы гитлеризма приступило к
практическим шагам по их претворению в жизнь, хотя бы в доступных пределах. С
начала 30-х годов университеты Германии стали ареной бесчинств со стороны
настроенных нацистки «культуртрегеров», антисемитских погромов и вообще
хулиганских выходок молодчиков, которым в дальнейшем предстояло огнем и мечом
насаждать «новый порядок» во многих странах Европы. В лице администрации
германских университетов нацистские молодчики нередко находили
единомышленников.
Так, в
Ненависть к демократии была присуща отнюдь не только
реакционным профессорам и университетским буршам из состоятельных семей.
Сильнее всего эта ненависть снедала тех, кто старался оставаться в тени, но на
деле был вершителем судеб
--------------
9 E. Ottwalt. Deutschland, erwache!, S. 368.
184
страны — магнатов капитала Кирдорфов, Рейшей, Борзигов
и прочих крупных промышленников и банкиров, Мы уже приводили данные об их
программе и политических целях. Не надо особой проницательности, чтобы
обнаружить прямые совпадения в требованиях монополистического капитала и
лозунгах нацистов, а затем — в их делах. Вот еще пример того же порядка —
высказывание главы горнозаводского объединения Западной Германии Бранди, относящееся
к
Так насаждалась одна из главных идей нацизма — идея
«фюрерства». Монополистам вторила правящая верхушка, несмотря на имевшиеся
тактические разногласия с гитлеровцами. В начале декабря
Гесслер заявил, что налицо кризис государства, причем
нынешнее положение в Германии есть не что иное, как только частный случай
«кризиса демократии» во всем мире. Выход может быть найден, вещал Гесслер (в
нем, кстати сказать, некоторые представители правящих кругов видели «будущего
человека» — осенью
В Германии наука о государстве издавна являлась едва
ли не ведущей дисциплиной, излюбленным предметом изысканий
----------------------------
10 «Dokumentation der
Zeit», 1963, N 293, S. 19.
11 «Deutsche
Allgemeine Zeitung», 6.XII 1930.
185
многочисленных апологетов существующего общественного
строя. В этой области подвизалась большая часть корифеев немецкой
историографии, правоведения, философии и т. п. Но в канун прихода гитлеровцев к
власти эти изыскания, имевшие всегда несколько отвлеченный характер с налетом
мистики (вспомним известную доктрину «демонии власти», которую последним
разрабатывал Ф. Майнеке12), приобрели у целой группы реакционных
ученых совершенно определенную и весьма практическую направленность. Эта
группа, идейным главарем которой бесспорно был один из крупных немецких
правоведов той поры К. Шмитт, ставила себе целью научно обосновать законность и
закономерность отказа от демократии и перехода к диктаторскому образу
правления, доказать, будто «немецкому духу» противопоказан парламентский режим,
а присуща идея подчинения воле верховного владыки 13. К. Шмитт (как
и его единомышленники) организационно не был связан с нацистами: он был
буржуазным ученым старой закалки. Но это не помешало Шмитту совершить для
гитлеровцев дело огромной важности — идейно подготовить и освятить споим
авторитетом «крупного специалиста» замену буржуазно-демократического строя
фашистской диктатурой, замаскированной под законность, тогда как на деле
произошел реакционнейший государственный переворот.
К такого рода подготовке приложил руку и сам Майнеке
(позже, в период гитлеровской диктатуры, он оказался не в фаворе). В своих
публицистических выступлениях он последовательно пропагандировал идею «сильной
руки», хотя и понимал, какие опасности (и для некоторых элементов
господствующих классов) таит в себе переход всей власти к гитлеровской клике.
Вот что писал Майнеке в новогоднем номере «Кёльнише цейтунг» за
--------------------
12 См. А.
И. Данилов. Фридрих Мейнеке и немецкий буржуазный историзм.— «Новая и
новейшая история», 1962, № 2.
13 См. С. Schmitt.
Verfassungsrеchtliche Aufsatze aus den Jahren 1924 bis 1954. Berlin, 1958; H.
Hofmann. Legimitat gegen Legalitat. Berlin, 1964
14 «Kolnische
Zeitung», 1.1 1930.
186
парламентского министерства»15. Все это помогало гитлеровцам расшатывать (и без того
не столь уж сильную) убежденность в необходимости сохранения парламентской
формы правления. Весьма характерно, что свои рассуждения, продиктованные
интересами определенных группировок правящей верхушки, Майнеке (как и другие
идеологи буржуазии) маскировал под волю «немецкого народа», который якобы
уполномочил его изложить свои стремления.
Важнейшей составной частью, сердцевиной нацистской
идеологии был антикоммунизм. Это, в первую очередь, и отличало гитлеризм от
довоенной идеологии германского империализма. И здесь гитлеровцы могли
опираться на постоянную и активную помощь со стороны всех без исключения
буржуазных партий и социал-демократии. Многочисленные примеры приводились выше
и будут приводиться в дальнейшем, по речь идет не просто о том, что те или иные
официальные лица и политические деятели ненавидели или боялись коммунистов.
Речь идет об атмосфере антикоммунизма, которая планомерно нагнеталась правящими
кругами, принимая по временам характер форменной истерии, как было, например,
после расстрела первомайской демонстрации
Социал-демократический премьер-министр Пруссии О.
Браун, сам заядлый антикоммунист, рассказывает, что в ходе одной из его встреч
с Гинденбургом в
-----------------------
15
«Kolnische Zeitung», 18.1 1931; см. также F. Meinecke. Werke, Bd. II.
Darmstadt, 1958. А Брюнинг в своих мемуарах даже подводит под эту идею
«теоретический» фундамент, утверждая, будто «стоит показать немецкому народу
твердую руку, как он проявляет энтузиазм» (Я. Bruning. Memoiren
1918—1934. Stuttgart, 1970, S. 170).
187
чаев являются фашисты. Однако престарелый реакционер,
занимавший высший пост в государстве, заявил Брауну: «Ведь коммунисты — главные
зачинщики тяжелых столкновений, но прусская полиция выступает против них
недостаточно сурово, зато она жестоко карает тех, кто принадлежит к
национальной оппозиции»16 Даже Браун был вынужден опровергнуть это
обвинение, настолько злонамеренную форму принял здесь тот самый антикоммунизм,
разжиганию которого Браун и его единомышленники по партии отдавали столько сил
и энергии.
На тех же позициях стоял и Брюнииг; об этом
свидетельствуют и современная событиям пресса, и документы, и воспоминания лиц,
близко стоявших в то время к главе правительства. Все газеты облетело интервью,
которое рейхсканцлер в августе
Публичные выступления такого рода со стороны
рейхсканцлера были не столь уж часты, но в более тесном кругу Брюнинг
неоднократно высказывался в том же — и еще более недвусмысленном — духе. Об
этом сообщает, например, тогдашний президент Рейхсбанка Лютер: «Брюнинг и после
сентябрьских выборов
Вспомним, что это было вскоре после резкого усиления
фашистской угрозы в результате выборов 14 сентября
------------------------
16 О. Вrаип. Von Weimar zu Hitler. New York, 1940, S. 320.
17 «Deutsche
Allgemeine Zeitung», 16.VIII 1931. Воспоминания
Брюнинга свидетельствуют, что в глубине души он прекрасно сознавал
незначительную эффективность этого жупела; он сетует на то, что «за 12 лет
предупреждения о грозящем распространении большевизма слишком обесценились».
Даже на лице американского посла Сэкетта, к которому он обратился, он увидел
скептическую гримасу. Тот же прием встретили антикоммунистические демарши
Брюнинга и у английского посла в Париже Тиррела (Н. Вruning. Memoiren 1918—1934,
S. 233—234, 334).
18 Н. Luther. Vor dem Abgrund, 1930—1933.
Berlin, 1964, S. 128.
19 DZAP, Reichskanzlei,
Kabinettssitzungen, N. 751, Bl. 785230.
20 T. Stolper. Ein Leben in
Brennpunklen unserer Zeit. Wien — Berlin — New York. Tubingen, 1960, S. 266.
188
Одной из линий, по которой шла антикоммунистическая
кампания и которая была целиком рассчитана на набожного обывателя, являлись
обвинения в «издевательстве» над культурными и религиозными ценностями. В устах
фашистов и их идейных адептов это получило суммарное название «большевизма в
области культуры». Следует отметить, что некоторые особенности антирелигиозной
пропаганды, проводившейся коммунистической партией в рассматриваемые годы, ее
прямолинейность и упрощенность, не до конца преодоленный нигилизм по отношению
к культурным ценностям использовались буржуазными мракобесами для дискредитации
большой и полезной работы по высвобождению трудящихся из-под влияния буржуазной
идеологии. Впрочем, под понятие «большевизма в области культуры» реакция
подводила явления, ничего общего не имевшие с большевизмом. Подобный ярлык
наклеивался на любые произведения литературы и искусства, любые научные труды,
шедшие в разрез с националистическими и шовинистическими идеями,
проповедовавшимися нацистами и их подголосками из числа «старых» мракобесов.
Так было, например, с фильмом «На западном фронте без перемен» по роману
Ремарка, о травле которого говорилось выше.
Посильный вклад в борьбу против прогрессивных
тенденций в области культуры вносило правительство Брюнинга (а затем его
преемники). Даже наиболее «левый» из министров — Вирт, ведавший внутренними
делами и пользовавшийся нелюбовью крайней реакции, в марте
Полемически заостренное, это высказывание весьма точно
схватило суть происходящего, когда вся политика господствую-
---------------------------------
21 «Verhandlungen des
Reichstags», Bd. 445, S. 1387-1389.
22 «Deutsche
Republik», 1931, N 24, S. 739—740.
189
щих классов, и более всего в идеологической области,
подводила страну к фашизму. Мы знаем, что между различными группами германской
буржуазии имелись существенные противоречия, в частности по вопросу о допущении
нацистов к власти, но независимо от этого весь круг идей, присущий правящей
верхушке в целом, порождал фашистскую идеологию, помогая ей заражать массы.
«Значительное большинство немецкой буржуазии,— писал тот же журнал,—завоевано
для фашистской идеологии... Демократия имеет врага в собственном стане...
Антибольшевизм не вчера и не сегодня стал маскировкой, за которой скрывается
интернационал реакции» 23. Антикоммунизм не только величайшая
глупость, как характеризовал его Т. Манн, но и величайшая подлость нашего века.
И если он восторжествовал в Германии 30-х годов, то огромную историческую
ответственность за это несут те общественные силы, которые
культивировали и насаждали его.
Одной из таких сил было руководство социал-демократии,
о чем уже шла речь в предыдущих главах. Нет никакой нужды воспроизводить здесь
антикоммунистические инсинуации, которыми из месяца в месяц, из года в год
заполнялись страницы многочисленных газет и журналов СДПГ, речи ее крупных и средних
функционеров. Конечно, большая часть вымыслов о политике, целях, деятелях КПГ,
содержавшихся в этих материалах, выветривалась из голов, настолько чудовищны
они были, но кое-что и оседало, превращаясь в предубежденность, а иногда во
враждебность ко всему, связанному с коммунистическими идеями, с КПГ, с СССР.
Объективно это была неоценимая услуга нацизму — смертельному врагу
социал-демократии, который шел к власти под флагом антикоммунизма, но имел в
виду уничтожить и СДПГ, и Свободные профсоюзы, и все остальные организации,
руководимые этой партией.
В этой связи нельзя не назвать пресловутого
Носке; хотя в рассматриваемое время он уже не играл руководящей роли в партии,
но все же занимал в качестве представителя СДПГ видный административный пост. В
январе
Но если Носке уж очень одиозная фигура, чье
политическое лицо не вызывает сомнений, то вот высказывания некоторых
--------------------------------
23 «Deutsche Republik», 1931, N 27, S. 833.
190
других деятелей социал-демократии, до того никак не
скомпрометированных. На Лейпцигском съезде СДПГ летом
Что же касается конкретизации, то не было, например,
ни одного выступления на территории Восточной Пруссии, когда бы социал-демократические
лидеры не требовали возврата Данцига (Гданьска) и «польского коридора» (правда,
добавляя при этом, что они «против войны», как средства заполучить потерянные
земли) 2б. Под стать этому было и их отношение к польскому народу, в
частности к тем сельскохозяйственным рабочим, самой притесняемой части наиболее
эксплуатируемого отряда трудящихся Германии, находившегося в неизбывной кабале
у остэльбских юнкеров. Приведем лишь отрывок из речи депутата СДПГ в рейхстаге
Екера, произнесенной 17 июля
Среди тех, кто содействовал распространению фашистской
идеологии, были некоторые деятели церкви — и католической, и протестантской.
Здесь чуть ли не определяющим стало стремление использовать нацизм для разгрома
«безбожников» — коммунистов и других свободомыслящих.
Вот что писал в
-----------------------
25 «Sozialdemokratischer
Parteitag in Leipzig». Berlin, 1931, S. 225, 226.
26 См.,
например, ЦПА ИМЛ, ф. 215, oп. 1, ед. хр. 210.
27 «Verhandlungen des Reichstags», Bd. 428, S. 6505.
28 См. К. Sontheimer. Das
antidemokratische Denken in der Weimarer Republik. Die politischen
Ideen des deutschen Natfonalismus zwischen 1918 und 1933. Munchen, 1962, S. 378; Patzold K. Klerikalfaschistische
Bestrebungen am Ausgang der Weimarer Republik.— «Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universitat zu Berlin», 1970, H. 2.
191
сти, когда и их истинное отношение к культуре вообще,
и их антихристианизм проявились уже вполне определенно.
«Мы должны,—писал другой церковный деятель, И. Брунс,—
не только говорить или судить об этом великом движении национал-социализма, на
нас лежит серьезнейшая, святая обязанность— молиться за него»29. Вот
что говорилось в одной из предвыборных листовок того времени,
распространявшихся католическими организациями: «Лжецы — те, кто утверждает,
что для Гитлера его католическая вера ничего не значит. Гитлер — убежденный,
глубоко верующий католик... Выбирать Гитлера — значит в самоуничижении и любви
склоняться перед крестом»30. . А вот такое же высказывание из уст
представителя соперничающей «державы»: «Евангелическая церковь своего призвания
ради должна прислушиваться к великим стремлениям, заложенным в
национал-социалистском движении, и благодарно приветствовать их»31.
Евангелическая пресса и теологические трактаты недвусмысленно пропагандировали
нацизм, закрывая глаза на «богопротивный» характер фашистской идеологии с ее
принципом «фюрерства», человеконенавистническим расизмом и т. п.
Нацисты опирались в своей борьбе за массы па множество
политических публицистов, формально не принадлежавших к гитлеровской партии, но
усердно насаждавших идеи милитаризма, шовинизма, антисемитизма. Среди этих лиц
был и певец «заката Европы» Шпенглер, один из наиболее близких к гитлеризму
идейных предшественников его, как бы олицетворявший преемственность прусского
милитаризма и реакции с фашизмом. Безусловно, нацизм является порождением
новейшего времени, его не было и не могло быть в прошлые исторические эпохи.
Но, выросши на германской почве, он вобрал в себя самые реакционные традиции
германской истории. Сами фашисты (в отличие от их нынешних апологетов) вовсе не
скрывали этого. Нацистский главарь в Пруссии Кубе (убитый в годы второй мировой
войны партизанами Белоруссии) писал: «Наследником прусской традиции государства
и власти является Адольф Гитлер, а не господин фон Ольденбург и его товарищи по
сословию» 32.
Гитлеровцы, таким образом, оспаривали это наследство
даже у «самих» прусских юнкеров типа Ольденбурга-Янушау. Что касается
Шпенглера, то он «подарил» нацистам идею отожествления пруссачества... с
социализмом. «Старопрусский дух и социалистическое мировоззрение,— писал он,—
ныне находящиеся в
---------------
29 «Die Kirche und das Dritte Reich», Bd.
I. Gotha, 1932, S. 73.
30 H. Muller. Katholische Kirche
und Nationalsozialismus. Munchen, 1963, S. 11.
31 K. Sontheimer. Das
antidemokratische Denken..., S. 377—378.
32 «Volkischer
Beobachter», 18.1 1932.
192
смертельной вражде, на деле одно и то же». Не Маркс,
уверял Шпенглер, а Фридрих-Вильгельм I — этот создатель прусского милитаризма —
был первым немецким социалистом!33 Эти, с позволения сказать идеи,
были восприняты гитлеровцами; их широко использовал, в частности, Г. Штрассер 34.
Другим прямым идейным предшественником нацизма был
Меллер ван ден Брук, которому принадлежит сам термин «Третья империя»,
послуживший названием главного его труда. Меллер ван ден Брук видел решение
всех внутренних проблем во внешней экспансии, но в отличие от экспансионистов
прежнего образца он связывал воедино захватническую политику с «социализмом».
Его кредо — социализм может быть осуществлен в Германии только на путях
империализма—было целиком заимствовано нацистами. Характерно, что в
Весьма важный для нацистской идеологии лозунг был дан
заголовком другой книги — плохонького романа «Народ без пространства»,
написанного Г. Гриммом. Стремление к захватам откровенно «обосновывалось» здесь
расизмом: немцы для автора «наиболее достойный, наиболее честный, наиболее
энергичный народ всей земли» или, как сказано в другом месте, — «наиболее
обученный, наиболее производительный белый народ земли» 36. И после
выхода этой книги Гримм продолжал сеять семена идеологии
человеконенавистничества и экспансионизма, помогая гитлеровской клике на ее
пути к власти 37.
------------------------------
34 Как видно из переписки Шпенглера, его участие в
подготовке прихода нацистов к власти не ограничивалось идейной стороной.
По-видимому, он был одним из руководящих деятелей «Общества по изучению
фашизма», созданного в начале
35 H.-J. Schwierskott.
Arthur
Moeller van den Bruck und der revolutionare
Nationalismus in der Weimarer Republik. Gottingen,
1962, S. 143.
36 F. L. Carsten. Volk ohne Raum. A note on Hans Grimm.—«Journal
of Contemporary History», 1967, N 2.
37 Одно из
выступлений Гримма, наполненных рассуждениями об «избранности» немецкого
народа, подверг резкой критике К. Осецкий. Он разоблачил Гримма как апологета
нацизма (несмотря на его опасения перед «социализмом» гитлеровцев). Для Гримма
нацизм был «первым и до тех пор единственным подлинным демократическим
движением немецкого народа!» («Weltbuhne», 1931, N 52, S. 948).
193
Гримм был, в конечном счете, аутсайдером, одиночкой.
Имелись, однако, целые группы реакционно-настроенных деятелей, организационно
не принадлежавших к гитлеровской партии и даже не во всем единодушных с ней,
тем не менее, сильнейшим образом способствовавших распространению ее идеологии.
Такова была, например, группа людей, проповедовавших так называемую
консервативную революцию — лозунг, прикрывавший собой антинародные замыслы
сторонников восстановления монархического режима и возобновления борьбы за
мировое господство.
«Национал-социализм — это паше движение, мы должны
взять его под защиту»,—писал в
Э. Юнг был близок к фон Папену и находился в числе
главных его сотрудников. После прихода гитлеровцев к власти 30 июня
Далеко не последнюю роль в роковом для немецкого
народа деле идейной подготовки нацизма сыграла также группа молодых
публицистов, объединившаяся в начале 30-х годов вокруг журнала «Ди Тат».
Возглавлял ее Г. Церер, ранее сотрудничавший в левобуржуазной газете «Фоссише
цейтунг». Он привлек к работе в «Ди Тат» X. Грюнеберга, Г. Вирзинга, Ф.
Циммермана (получившего известность под псевдонимом Ф. Фрид) и др. Журнал вел
неутомимую антипарламентскую пропаганду, ратуя за «сильное правительство» и
настойчиво проповедуя переход к диктатуре 39.
В
-----------------------
38 Е. J. Jung. Neubelebung von Weimar? —
«Deutsche Rundschau», 1932, Juni, S. 157, 161.
39 K. Sontheimer. Der
Tatkreis.— «Vierteljahrshefte fur Zeitgeschichte», 1959, N3.
194
рявшийся генералом Шлейхером, они с энтузиазмом
встретили приход Гитлера к власти. «Ди Тат» писал тогда: «Если ныне дух
медленно становится под контроль, то это полезнее всего для него самого. Лучшие
и наиболее глубокие идеи человечества очень редко возникали на свободе» 40.
Такова, в самых общих чертах, история усилий, которые
приложили различные политические группировки буржуазии и буржуазные публицисты,
не принадлежавшие к нацистской партии, помогая формированию фашистской
идеологии и ее распространению. Значение этой помощи для гитлеровской клики
было огромно; восприимчивость к идеологии национализма и военных захватов
являлась важнейшей предпосылкой для завоевания масс фашизмом.
Группа Тиссена — Кирдорфа усиливает нажим. Гарцбургский фронт
Германская буржуазия искала выхода из кризиса,
перекладывая его тяготы на плечи трудящихся и используя в своих целях
государство. Но по мере обострения экономического и политического положения
усиливалось недовольство влиятельных кругов монополистической буржуазии
политикой правительства. Хотя Брюнинг верно служил их интересам, магнаты
тяжелой промышленности, чьи прибыли сократились более всего, полагали, что
правительство медлит с осуществлением программы крупного капитала, намеченной
еще в начале экономического кризиса. Финансовый крах лета
К июлю
----------------
40 «Die
Tat», 1933, N 4.
195
мендовали президенту республики «вмешаться в ход
историй» и ввести в правительство «национал-социалистскую партию
...поддерживающую ее Немецкую национальную партию и фронтовиков Стального
шлема»41. Примерно в то же время Гинденбургу было направлено
аналогичное послание «вождей экономики Гессена-Нассау и Рейна», «Объединенных
отечественных союзов Германии», Пангерманского союза и других экономических и
политических организаций, ориентировавшихся на партии крайней реакции42.
Домогательства крайне правых, видевших в Гинденбурге
своего единомышленника, доводились до сведения Гинденбурга и иным, менее
официальным путем — благодаря личным связям, которыми могли похвастаться немало
деятелей Национальной партии, «Стального шлема», а также некоторые нацисты,
например Геринг, которого Гинденбург знал еще по первой мировой войне. Об одной
из таких встреч сообщает заместитель Гугенберга по руководству Национальной
партией О, Шмидт; она состоялась в начале сентября
Все более настойчивые требования монополий адресовались
не только Гинденбургу, но и правительству. Так, совещание главарей тяжелой
промышленности, состоявшееся в Дюссельдорфе в начале июня
В начале сентября аналогичную программу выдвинуло
«Имперское объединение металлопромышленности». Этот монополистический союз
требовал, чтобы правительство «было значительно расширено в сторону
национальной концентрации, чтобы была изменена имперская конституция с целью
усиления правительства и его независимости, ограничения численности и пре-
-------------------------
41 DZAP, Buro des
Reichsprasidenten, N 46, Bl. 140—142; см. также: В. Buchta. Die Junker und die
Weimarer Republik. Berlin, 1959, S. 135.
42 E. Czichon. Wer verhalf Hitler
zur Macht? Zum Anteil der deutschen Industrie an der Zerstorung der Weimarer
Republik. Koln, 1967, S. 21.
43 O.
Schmidt-Hannover. Umdenken oder Anarchie. Manner, Schicksale, Lehren.
Gottingen, 1959, S. 277.
44 «Berliner
Borsen-Courier», 3.V1 1931.
196
рогатив рейхстага и создания второй палаты». Естественно, что этому также сопутствовало требование
«более свободного применения тарифной системы» 45.
Лето и осень
В итоге этой кампании фашистам удалось привлечь на
свою сторону ряд воротил промышленно-банковского мира. В их числе были один из
заправил треста «ИГ Фарбениндустри». Штейнбринк; братья Тенгельманы,
подвизавшиеся в горнозаводской промышленности Северо-запада; банкир Раше из
Вестфалии; калийный магнат Ростерг и др.49 22 августа
Вместе с тем лагерь крайней реакции летом и осенью
-----------------
45 «Berliner
Borsen-Courier», 6.IX 1931.
46 Вероятно,
под впечатлением этого выступления Кирдорф обратился к председателю Союза
германской промышленности Дуисбергу с требованием присоединения Союза к лозунгу
создания правительства во главе с Гитлером. Однако Дуисберг, возглавлявший «ИГ
Фарбениндустри», отклонил это предложение, ибо в тот момент его концерн еще не
был столь сильно заинтересован в этом, как тяжелая промышленность Рура (Е.
Czichon. Wer verhalf Hitler zur Macht? S. 21).
47 G. W. F.
Hallgarten. Hitler, Reichswehr und Industrie. Zur Geschichte der Jahre 1918—1933.
Frankfurt a / M., 1955, S. 101.
48 F. Klein, Die diplomatischen Beziehungen
Deutschlands zur Sowjetunion 1917 bis 1932. Berlin,
1953, S. 180.
49 Неслучайно Гитлер в беседе с Брейтингом
воскликнул: «Офицеры и промышленники гораздо более надежны, чем интеллектуалы,
в этом я могу Вас заверить» (Е. Calk. Ohne Maske. Hitler — Breiting
Geheimgesprache 1931. Frankfurt a /M., 1968, S. 96).
50 «Volkischer
Boobachter», 22.VIII 1931.
197
в верхнебаварском городке Крейте, где встретились
Гитлер и Гугенберг, а также их ближайшие приспешники51. Гугенберг
последовательно держал курс на поддержку Гитлера, хотя даже председатель
фракции Национальной партии Оберфорен (впоследствии, уже после установления
гитлеровской диктатуры, он погиб при таинственных обстоятельствах, будучи, по
всей вероятности, убит гестаповцами) имел серьезные сомнения насчет результатов
сотрудничества с нацистами62. Местом предполагаемого сборища был
избран небольшой город Гарцбург в Брауншвейге; выбор на него пал потому, что
здесь, как уже отмечалось, существовало коалиционное правительство с участием
представителя гитлеровской партии в качестве министра внутренних дел.
Гарцбургская конференция открылась 11 октября
Наиболее «богато» были представлены на Гарцбургской
конференции воротилы крупного капитала. Сюда прибыли вездесущий Шахт,
крупнейший сталепромышленник Шленкер, возглавлявший '«Объединение по охране
общих экономических интересов в Рейнской области и Вестфалии», глава Союза
горнозаводской промышленности Северо-запада Бранди и его правая рука Грауэрт,
президент «Имперского объединения оптовой торговли» Равене, нефтяной магнат
Миддендорф и др. В работе этой конференции, обсуждавшей планы дальнейшей
фашизации Германии, участвовали также совладелец гигантской гамбургской верфи
Блом и его генеральный директор Гок,
-------------------------
51 О. Schmidt-Hannover. Umdenken oder Anarchie, S. 271.
52 Ibid., S.
273.
198
промышленники Готштейн, Меллерс, Кригер, банкиры
Штаус, Регенданц, Зогемейер, Любарш53.
Там, где готовилось удушение республики, никак не
могли отсутствовать и юнкеры, которым миллиарды, предоставлявшиеся по «Восточной
помощи», казались совершенно недостаточными. В Гарцбург прибыло все
руководство основной организации аграриев — «Ландбунда» во главе с его
президентом Калькрейтом. Среди них находился барон фон Гайль, в недалеком
будущем сыгравший немаловажную роль в переходе к новому этапу фашизации страны.
Интересы крупных землевладельцев представляли и «бывшие» — члены различных
княжеских фамилий, в числе которых можно было видеть одного из сыновей
Вильгельма II, принца Эйтель-Фридриха, герцога Кобургского, уже давно
являвшегося ярым нацистом, и др. Обращало на себя внимание присутствие
сравнительно крупного государственного чиновника — баварского министра юстиции
Гюртнера, который был связан с нацистами чувствами взаимной симпатии после
того, как он добился в
Невелика по численности — всего 15 человек — была в
Гарцбурге группа генералов и адмиралов, но в нее входили самые отъявленные
экспоненты милитаристской касты кайзеровских времен, многие из которых нашли
прибежище в рейхсвере. Здесь присутствовали бывший командующий рейхсвером Сект,
пресловутый Лютвиц — один из главарей капповского путча, амнистированный
Веймарской юстицией, фон дер Гольц, «прославившийся» своими похождениями на
востоке Европы уже после окончания первой мировой войны. Кайзеровские генералы
Эйнем, Гальвиц, Фалькенгаузен, Леветцов и др. дополняли эту группу,
участвовавшую в сплочении реакционных сил как один из важных его компонентов. К
ним примыкали главари «Стального шлема» Зельдте и Дюстерберг; одной из целей
Гугенберга, побуждавших его искать соглашения с Гитлером, было стремление
упрочить положение «Стального шлема», явно не выдерживавшего конкуренции уже
более массовой теперь военизированной организации гитлеровской партии — ее
штурмовых и охранных отрядов.
Кульминационным пунктом Гарцбургской конференции стали
не заранее запланированные речи Гитлера, Гугенберга, Зельдте — от '«Стального
шлема», Класса — от Пангерманского союза и т. п., а выступление отставного
президента Рейхсбанка Шах-
------------------------------------------
53 А.
Норден. Уроки германской истории. М., 1948, стр. 91—92; К. D. Bracher. Die Auflosung der
Weimarer Republik. Eine Studie zum Problem
des Machtverfalls in der Demokratie. Stuttgart
— Dusseldorl, 1955, S. 334—335.
54 «Vorwarts»,
ll.X 1931.
199
![]() та —
наиболее важного эмиссара крупного капитала в нацистском лагере. Шахт поставил
себе целью дискредитировать экономическую политику правительства Брюнинга, в
особенности в области финансов. Это была нетрудная задача, но Шахт, с точки
зрения тех, кто находился у власти, «переборщил», раскрыв перед всем миром
катастрофическое положение валютных резервов Германии. Это обострило отношения
между «национальной оппозицией», собравшейся в Гарцбурге, с одной стороны, и
правительством и теми, кто стоял за ним — с другой. Острота этих отношений
отразилась в манифесте Гарцбургской конференции, участники которой единодушно
объявили войну Брюнингу и его коллегам, которых они считали уже недостаточно
реакционными.
та —
наиболее важного эмиссара крупного капитала в нацистском лагере. Шахт поставил
себе целью дискредитировать экономическую политику правительства Брюнинга, в
особенности в области финансов. Это была нетрудная задача, но Шахт, с точки
зрения тех, кто находился у власти, «переборщил», раскрыв перед всем миром
катастрофическое положение валютных резервов Германии. Это обострило отношения
между «национальной оппозицией», собравшейся в Гарцбурге, с одной стороны, и
правительством и теми, кто стоял за ним — с другой. Острота этих отношений
отразилась в манифесте Гарцбургской конференции, участники которой единодушно
объявили войну Брюнингу и его коллегам, которых они считали уже недостаточно
реакционными.
Конечно, не могло быть и речи о сплоченности тех
элементов, из которых складывался фашистский блок,— все они преследовали отнюдь
не только интересы реакции в целом, но и частные, и грызня между отдельными
группировками возобновилась чуть ли не на второй день55. Но
Гарцбургский фронт, как окрестили конгломерат .организаций, участвовавших в
конференции, явился все же удавшейся в целом попыткой объединения фашистских (и
профашистских) элементов56. Тем не менее и в те дни, и в последующем
было немало людей, отрицавших значение этой консолидации сил крайней реакции.
Так, левобуржуазная «Берлинер тагеблат» подчеркивала тогда лишь противоречия и
разногласия, разделявшие участников конференции, которые газета объясняла...
социальной пропастью между реакционерами — сторонниками Гугенберга — и
«социалистами»-гитлеровцами. «Между ними не может быть моста... После Гарцбурга
нельзя поверить, что «национальная оппозиция» когда-нибудь будет
способна стать
----------------
55 В своих
мемуарах председатель «Стального шлема» Дюстерберг приводит обширную переписку
между руководством (и некоторыми местными организациями) этой организации и
руководством нацистской партии, относящуюся к концу
56 «Geschichtе der deutschen Arbeiterbewegung», Bd. 4. Berlin, 1966, S. 305,
200
у власти»57. Такого рода прогнозы могли
лишь разоружить тех, кто верил в них.
Минули страшные годы фашистской диктатуры, которые,
как известно, начались именно как правление реакционного буржуазного блока,
чьим прообразом, «моделью» был Гарцбургский фронт, а указанная, совершенно
ложная, точка зрения вновь появилась — ныне в качестве средства фальсификации
истории. Не удивительно, если ее повторяет в своих мемуарах ближайший
приспешник Гугенберга О. Шмидт, пытающийся снять со своего шефа (а заодно и с
себя) колоссальную историческую ответственность за сговор с Гитлером, за решающую
поддержку его устремлений 58.
Эту версию подхватил, например, Э. Ролоф, автор во
многом полезной книги о политической жизни в Брауншвейге накануне прихода
Гитлера к власти. Он также твердит, будто Гарцбургского фронта не было и в
помине59. Факты свидетельствуют об обратном: о том, что, несмотря на
его непрочность, создание этого блока способствовало укреплению сотрудничества
фашистов и поддерживавших их организаций, а главное, показало реакции
возможность, пусть временной, консолидации этих сил, что сыграло свою роль в
окончательном исходе напряженной политической борьбы начала 30-х годов.
Гитлеровцы извлекли из гарцбургского сборища и
наибольшую непосредственную пользу, еще более расширив свои связи с крупным
капиталом. Именно здесь Гитлер заручился поддержкой Л. Грауэрта, занимавшего
пост генерального секретаря Союза горнозаводской промышленности Северо-Запада60.
Сговор Грауэрта с Гитлером определил также позицию Шленкера, что было не менее
важно для гитлеровской партии61. Еще одним новым союзником нацистов
— и тоже весьма влиятельным — стал крупный электропромышленник Карл Сименс62.
Гарцбургская конференция должна была бы насторожить
германский рабочий класс и максимально усилить его борьбу
------------------------------------------------
57 «Berliner
Tageblatt», 12.X 1931.
58 О. Schmidt-Hannover. Umdenken oder Anarchie, S.
269.
59 Е.-А. Rotoff. Burgertum und
Nationalsozialismus 1930—1933. Braunschweigs Weg ins Dritte Reich. Hannover, 1961, S. 76.
60 Помощь Грауэрта оказалась, видимо,
настолько важной для нацистов, что вскоре после их прихода к власти он был
назначен статс-секретарем прусского министерства внутренних дел. Вместе с
Герингом, возглавлявшим это министерство, Грауэрт непосредственно руководил
расправой с организованным рабочим движением.
61 «Frankfurter Zeitung», 9.1 193?
62 С. F. Siemens, Die
gegenwartige Lage Deutschlands. Berlin, 1931, S. 10. Это стыдливо замалчивает автор апологетической биографии Сименса (G,
Siemens. Carl Friedrich von Siemens. Ein grosser Unternehmer. Freiburg —
Munchen, 1960).
201
против фашизма во всех его разновидностях. Но только
коммунистическая партия осознала усиливавшуюся опасность. Для лидеров же
социал-демократической партии Гарцбург явился лишь катализатором очередной
парламентской махинации с целью продолжения поддержки режима Брюнинга. Выступая
14 октября в рейхстаге, глава фракции СДПГ Брейтшейд признал, что фашистская
вылазка — гарцбургское сборище — существенно облегчила позицию
социал-демократов, поддержку ими правительства63. Между тем именно в
эти дни в самом правительстве, возглавляемом Брюнингом, произошли изменения,
придавшие ему еще более реакционный характер.
Преобразование правительства Брюнинга и новые поиски путей сговора с
Гитлером
Противоречия в буржуазном лагере по вопросу о методах
управления страной обострились. Заправилы «ИГ Фарбениндустри», О. Вольф и
другие монополисты, оказывавшие решающее влияние на деятельность правительства
Брюнинга, в это время еще считали включение гитлеровцев в имперский кабинет
преждевременным. По словам Брюнинга, он в октябре
Брюнинг по-прежнему придерживался своей точки зрения о
необходимости решения кардинальных для германского империализма
внешнеполитических вопросов до осуществления решающих перемен в правительстве,
т. е. привлечения в его состав националистов и нацистов. Он и поддерживавшие
его круги рассматривали в качестве проблемы №1 завоевание права на довооружение66
(рейхсканцлер не без основания полагал, что
---------------------------------
63 «Verhandlungen des
Reichstags», Bd. 446, S. 3085.
64 H. Bruning. Ein
Brief.—«Deutsche Rundschau», 1947, N 7, S. 7.
65 H. Bruning.
Memoiren 1918—1934, S. 375.
66 Хорошее
представление о коварной тактике германских империалистов в этом вопросе дает
речь Брюнинга в комитете рейхстага по иностранным
202
он уже добился фактической отмены репараций, хотя
впереди еще были переговоры об оформлении этого). Но, как видно из мемуаров
Брюнинга, он допускал и возможность передачи власти крайне правым в ближайшее
время, если они дадут обязательство поддержать кандидатуру Гинденбурга в
президенты (в начале
Чрезвычайно важно отметить, что Брюнингу была
полностью ясна (он говорил об этом Шлейхеру) опасность захвата нацистами и
националистами всей власти. Но стремление обеспечить сохранение Гинденбурга на
посту президента (а с его помощью — восстановление монархии) уже с осени
Это не могло не облегчить наступления крайней реакции.
Не имея пока возможности полностью овладеть положением, крайне правые
добивались все новых шагов по пути «холодной» фашизации Германии. Одним из
таких шагов явилось преобразование правительства Брюнинга. Это требование
реакция выдвигала уже давно. Так, еще в декабре
В последующие месяцы не проходило чуть ли ни одного
дня без выступления кого-либо из деятелей правых партий или близких к ним
органов печати с требованием, в качестве минимальной уступки их
домогательствам, устранить из правительства неугодных наиболее оголтелым
реакционерам министров— Дитриха, Штегервальда, Пюндера, а особенно Вирта и
Курциуса. Что касается Вирта, то он снискал нелюбовь крайних реакционеров еще в
бытность рейхсканцлером, когда (после убийства Ратенау) провозгласил: «Враг
находится справа!» Курциус же потерял доверие откровенных реакционеров и
реваншистов в тот момент, когда провалился австро-германский таможенный союз.
-------------------------
делам, произнесенная за несколько дней до его
отставки. Высказываясь против принятия резолюции с требованием полной свободы
вооружений для Германии, Брюнинг советовал делать упор на разоружении других
держав. Ввиду значительной разницы в фактических уровнях вооружения прочих
стран и Германии последняя может достичь фактического равенства (а не только
формального права на это, о чем без устали твердила официальная пропаганда)
только в том случае, если ее довооружение будет сочетаться с частичным
разоружением государств Антанты (Н. Bruning. Reden und Aufsatze eines
deutschen Staatsmannes. Munster, 1968, S. 172).
87 H. Bruning. Memoiren 1918—1934, S. 374.
88 «Deutsche Allgemeine Zeitung», 8.ХП 1930. По
свидетельству Тревирануса, тогда же устранение Вирта и Курциуса было предметом
беседы между ним и Пюндером («Staat, Wirtschaft und Politik in der Weimarer
Republik. Festschrift fur Heinrich
Bruning». Berlin, 1967, S. 375).
203
Летом
Германские газеты в конце сентября — начале октября
Если политические симпатии Феглера принадлежали
Гитлеру и Гугенбергу, то отказ более умеренно настроенных Шмица 70 и
Зильверберга войти в правительство Брюнинга свидетельствовал о том, что оно
казалось им не слишком устойчивым. Так, Зильверберг мотивировал свой отказ
неуверенностью в том, что «Союз германской промышленности и промышленность
запада в собственном смысле слова одобрят этот шаг»71. Подобная
позиция видных деятелей крупного капитала нанесла удар престижу правительства в
лагере буржуазии. Выступая вскоре после
------------------------------
69 « W. Gorlitz. Hindenburg. Ein
Lebensbild. Bonn, 1953, S. 341.
70 В архиве
«ИГ Фарбениндустри» имеется объемистая папка, в которой собраны газетные
материалы, связанные с кандидатурой Шмица; во многих из них говорилось о
близости его к правительству, что приносило крупнейшей химической монополии
большие выгоды (DZAP, IG Farbenindustrie, А 1110).
71 A. von Saldern. Hermann Dietrich.
Ein Staatsmann der Weimarer
Republik. Boppard-am-Rhein, 1966, S. 126.
204
этого в рейхстаге, Брюнинг с большим сожалением
говорил о неудаче своих попыток создать «национальное» правительство (с
участием представителей оппозиции справа), чего он желал «всем сердцем»72.
С другой стороны, за бортом оказался Гесслер, хотя он и изъявил согласие занять
пост министра внутренних дел.
Причины этого становятся ясны, когда знакомишься с
опубликованными в Западной Германии материалами из архива Гесслера. Принятие
этого министерства он связывал с введением чрезвычайного положения; речь шла бы
тогда, как Гесслер сообщил Гинденбургу, уже не о запрещении тех или иных
организаций или союзов (прежде всего коммунистической партии), а об общей
«перестройке основ государства». Гесслер не делал секрета из того, что он имеет
в виду покончить с конституцией73. План, хотя и весьма заманчивый,
не был осуществлен, ибо Гинденбург избегал прямого, открытого разрыва с
конституцией, опасаясь массовых выступлений протеста; он предпочитал
постепенное ее выхолащивание.
Какие закулисные силы дирижировали событиями,
развернувшимися в первой половине октября, когда они приобрели особенную
остроту, показал па основе неопубликованных документов Ф. Клейн (ГДР). В его
работе выпукло обрисована, в частности, роль совладельца крупнейшей пароходной
компании Германии Куно, бывшего в
----------------------
72 «Verhandlungen des
Reichstags», Bd. 446, S. 2095.
73 О. Gessler. Reichswehrpolitik in der Weimarer Zeit. Stuttgart , 1958, S. 84, 568; См. также: H. Bruning. Memoiren
1918—1934, S. 426.
74 F. Klein. Zur Vorbereitung der
faschistischen Diktatur durch die deutsche Grossbourgeoisie.— «Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft», 1953, H.
6, S. 897—899; См. также: W. Ruge, Die «Deutsche Allgemeine Zeitung»
und die Bruning-Regierung.—«Zeitschrift fur Geschichtwissenschaft», 1968, H. I.
205
В газетах появились сообщения об активности другого
реакционного деятеля, пресловутого фон Папена, тогда принадлежавшего к правому
крылу партии Центра. Главный редактор «Берлинер тагеблат» Т. Вольф считал его
даже чуть ли не инициатором реорганизации правительства, что было, безусловно
преувеличением75. Но указание Вольфа на близость Папена к
Гинденбургу вероятно соответствовало действительности, учитывая его назначение
в недалеком будущем преемником Брюнинга на посту рейхсканцлера.
После того как попытки Брюнинга усилить свой кабинет
посредством включения двух-трех «китов» монополистического капитала не
увенчались успехом, ему пришлось ограничиться лишь одним посланцем крупного
бизнеса — второстепенным деятелем «ИГ Фарбениндустри» профессором Вармбольдом,
в качестве министра экономики. Портфель министра иностранных дел Брюнинг был
вынужден взять сам, а пост министра внутренних дел вручил, также по совместительству,
военному министру генералу Тренеру. Последняя уния было особенно примечательна
и свидетельствовала о том, что правительство идет все далее в осуществлении
концепции «сильной власти» 76. Коммунистическая партия и некоторые
левобуржуазные публицисты, например Осецкий, расценили объединение в руках
генерала двух столь видных постов как прямой вызов пролетариату. Одним из
результатов этого шага было получение генералом Шлейхером прямого доступа ко
всем делам, входившим в компетенцию министра внутренних дел и непосредственно
затрагивавшим социальные отношения. Удельный вес военщины в политической жизни
страны, и до того весьма значительный, повысился еще более.
Между тем «политические генералы» именно в это время
сосредоточили в своих руках важнейшие нити связей между правящими кругами и
нацистской верхушкой. Эти контакты вновь стали интенсивными с лета
-----------------------------------
75 «Berliner
Tageblatt», ll.X 1931.
76 На
заседании нового кабинета 12 октября Грёнер требовал «решительно высказаться» в
правительственной декларации по поводу объединения в его руках двух постов. Из
проекта декларации была изъята фраза, что это сделано с целью охраны
конституции (DZAP, Kabinettssitzungen, N 738, Вl. 788483 ff).
77 Т. Vogelsang. Reichswehr, Staat und NSDAP.
Beitrage zur Geschichte der Jahre 1930—1932. Stuttgart, 1962, S. 430.
206
гом и сыном Вильгельма II принцем Августом-Вильгельмом
продолжалась несколько часов и открывала собой серию аналогичных встреч.
Весьма значительна беседа командующего рейхсвером
генерала Гаммерштейна с Гитлером в сентябре
Мемуары Брюнинга, сообщающие множество ранее
совершенно незнакомых исследователям фактов, содержат неожиданные сведения и по
поводу контактов с гитлеровцами накануне Гарцбургской конференции. Брюнинг
сообщает, во-первых, о частых визитах Геринга, якобы заверявшего его в
дружественном отношении Гитлера. Мы узнаем далее, что рейхсканцлер добивался от
Гинденбурга, чтобы тот согласился принять фашистского главаря73 —
факт немаловажный, если учесть, какое значение придавалось этому приему.
Наконец, лишь из мемуаров Брюнинга мы узнаем о новой сверхсекретной встрече его
с Гитлером 10 октября, т. е. за день до гарцбургского сборища, проходившей
внешне весьма дружественно. Что же касается существа, то глава правительства
вновь доказывал своему собеседнику, что для нацистской партии целесообразно
оставаться в оппозиции и в течение предстоящей тяжелой зимы. Брюнинг лишь
несколько видоизменил аргументацию, делая упор не на внешнеполитические
факторы, а на «коммунистическую опасность», которая, по его словам, могла стать
реальной только в случае прихода крайне правых к власти80. В этом
вопросе единодушия между Брюнингом и Гитлером, надо полагать, не было.
В октябре имели также место две беседы Шлейхера с
Гитлером; первая — до 11 октября, т. е. до приема фашистского главаря
президентом, а вторая — после того, как Гитлер побывал у Гинденбурга. Эти
встречи произошли с ведома Брюнинга, но сведения о них проникли в печать. 29
октября в газете «Берлинер фольксцейтунг», примыкавшей к Государственной партии
(редактором газеты был лидер левого крыла этой пар-
---------------------------------------------------
78 К. von Hammerstein. Schleicher, Hammerstein und
die Machtubernahme 1933.—«Frankfurter Hefte», 1956, N 1, S. 17.
79 H. Bruning. Memoiren 1918—1934,
S. 386, 390, 418 ff.
80 Ibid., S.
391.
207
тии О. Нушке), появилась сенсационная статья о
переговорах «серого кардинала» военного министерства с «фюрером». В статье
говорилось, что собеседники достигли «полного взаимопонимания». Серьезные
противоречия между рейхсвером и нацистской партией, утверждал автор, были в
результате этих переговоров устранены81. В качестве доказательства
приводились заверения Гитлера, что нацисты не претендуют на военное
министерство (чего опасались генералы). Ту. же цель преследовало заявление
Гитлера, что «ни при каких условиях не может возникнуть угроза превращения
штурмовых отрядов в конкурента рейхсвера» 82.
В свою очередь Шлейхер сообщил Гитлеру — и это в самый
короткий срок стало достоянием гласности, не вызвав со стороны генерала никаких
опровержений,— что он не является противником нацистов. Шлейхер признал, что
нацисты пользуются в армии столь большим влиянием — прежде всего среди молодых
офицеров,— что это исключает возможность борьбы против них. Генерал «забыл»
присовокупить, что между военщиной и фашистами имелось принципиальное
взаимопонимание, а предметом разногласий были преимущественно опасения
конкуренции, которые Гитлер (пусть на время) устранил своими заверениями. Во
всяком случае, сообщение «Берлинер фолькс-цейтунг» произвело громадное
впечатление 83. Оно было усилено тем, что военное министерство на
следующий же день подтвердило самый факт переговоров, уточнив лишь, что
состоялась не одна, а две встречи 84.
О настроениях Тренера, непосредственного начальника
Шлейхера, можно судить по документам, извлеченным после войны из личных архивов
генерала. 1 ноября он в одном из частных писем выражает уверенность, что Гитлер
будет твердо придерживаться «легального» курса и что он «стремится быть в
хороших отношениях с правительством Брюнинга». Грёнер полагал, что «фюрер»
всерьез намерен очистить свою партию
--------------------------------------
81 P.
Merker. Deutschland. Sein oder nicht sein, Bd. 1. Mexico, 1944, S. 226; K.
Caro, W. Oehme. Schleichers Aufstieg. Ein Beitrag zur Geschichte der
Gegenrevolution. Berlin, 1933, S. 218.
82 O.-E. Schuddekopf. Das Heer und die
Republik. Hannover, 1955, S. 327—328.
Гитлера, конечно, не смущало, что его заверения противоречат распоряжению,
изданному в октябре
83 АВП СССР, ф. 82, п. 57, д.
84 См.
«Правда», 31X1931.
208
от «радикальных» элементов85. 18 ноября
генерал в качестве министра внутренних дел дал указание статс-секретарю
Цвайгерту не применять никаких полицейских мер против штурмовых отрядов. В духе
этих документов были выдержаны инструкции, преподанные представителям земель на
совещании в министерстве, состоявшемся примерно в то же время85.
Грёнер был, по признанию Брюнинга, исключительно любезен по отношению к
нацистам, имея целью склонить их к принятию плана рейхсканцлера насчет
переизбрания Гинденбурга 87.
Наиболее наглядным, пожалуй, доказательством сближения
правящих кругов с нацистами была ликвидация — буквально через несколько дней
после прихода Грёпера в министерство внутренних дел — подотдела, занимавшегося
наблюдением за «праворадикальными» организациями, т. е. в первую очередь за
гитлеровцами. Возглавлявший этот подотдел член партии Центра Шпикер был уволен.
Официальная версия гласила, что дело объясняется лишь... необходимостью
сокращения расходов88. Но вся пресса, независимо от направлений, не
скрывала, что причины увольнения Шпикера и закрытия руководимого им отдела
сугубо политические, а именно стремление устранить одно из препятствий к
полюбовному соглашению с Гитлером. Наиболее недвусмысленно высказывалась
«Берлинер берзенцейтунг», близкая к военным кругам. Приветствуя уход Шпикера,
она указывала, что никаких наблюдений за «правыми радикалами», давшими
заверения в своей легальности, больше не нужно 89.
Не удивительно, что газеты связывали этот шаг, прежде
всего с именем Шлейхера. Подтверждением подобной догадки служила передача
некоторых функций ликвидированного подотдела, являвшегося частью аппарата
министерства внутренних дел, различным отделам военного министерства,
подчинявшимся Шлейхеру и непосредственно руководимым его ближайшим сотрудником
полковником Бредовом 90. Ближайшие месяцы принесли дальнейшее
сближение верхушки военщины с нацистскими главарями; и хотя затем единение было
нарушено в результате нового обострения противоречий между обеими сторонами,
оно имело существенные последствия, подготовив сговор командования рейхсвера с
гитлеровцами, ставший одним из важнейших звеньев передачи власти Гитлеру.
-----------------
85 R. Phelps. Aus den
Groener-Dokumenten.— «Deutsche Rundschau», 1950, N 12, S. 1017.
86 G. Craig. Reichswchr
and national-socialism.— «Political Science
Quarterly», June 1948, p. 216.
87 H. Brilning. Memoiren 1918—1934,
S. 461.
88 АВП СССР, ф. 82, п. 57, on. 15, д.
89 «Berliner Borsenzeitung», 15.X1 1931.
90 ЦПА ИМЛ, ф. 215, ед. хр. 192.
209
Наряду с Брюнингом, не последнюю роль в организации
первой встречи между фашистским «фюрером» и президентом республики сыграла
военщина. Практических результатов эта встреча как будто бы не имела, дело
ограничилось знакомством двух обер-реакционеров — мракобеса старого закала и
шедшего ему на смену фашистского изувера, но по своему значению это свидание
далеко выходило за пределы непосредственных последствий.
Осецкнй писал в те дни: «Это событие неслыханного
пропагандистского воздействия для реакции, даже если оба господина беседовали
лишь о погоде»91. О том же говорит в своих мемуарах и представитель
антидемократического лагеря Папен. Он подчеркивает, что благодаря приему у
Гинденбурга «Гитлер значительно утвердился в своих тоталитарных претензиях, а
его
готовность к лояльному сотрудничеству уменьшилась» 92
. На фоне этого признания откровенного профашиста по меньшей мере странно
выглядит комментарий, которым сопроводил визит Гитлера к Гинденбургу
центральный орган СДПТ: «Путь Гитлера в Каноссу»93. То была не
«ошибка», а проявление все той же тенденции преуменьшения фашистской опасности,
о которой уже шла речь выше.
Большое внимание привлекла своей симптоматичностью
опубликованная 25 ноября
Такая констатация, безусловно, характерна сама по
себе; автору она нужна была, чтобы проложить дорогу соглашению правящих кругов
с нацистами. У вдумчивых наблюдателей тог-
------------------------
91 «Weltbuhne», 1931, N 41, S. 541.
92 F.
Papen. Der Wahrheit eine Gasse. Jnnsbruck, 1952, S.
170.
93 «Abend», 10.X 1931.
94 W. Jochmann. Nationalsozialismus
und Revolution. Dokumente. Frankfurt a/M., 1963, S. 354.
210
дашних событий складывалось все более твердое
убеждение, что те, кто стоит у власти, вполне готовы к такому соглашению. Вот
что писал, например, К. Осецкий в статье «Коричневое и черное», опубликованной
в начале ноября
Но сговор не состоялся и на этот раз, как и год назад.
Во-первых, события октября—ноября
Но главное заключалось в том, что экономический кризис
продолжал бушевать с нарастающей силой, а вместе с ним катастрофически снижался
жизненный уровень миллионов немецких граждан самых различных слоев общества. В
этих условиях оставались полностью в силе те соображения, которыми правящие
круги руководствовались год назад, когда перед ними вплотную встал вопрос об
использовании нацистов у руля управления страной. «Новые силы не должны
заниматься работой по ликвидации, которая могла бы раньше времени обессилить
их. Они не должны быть введены в действие тогда, когда каждый может на пальцах
подсчитать, через какое время они будут размолоты... Час радикализма еще не
пробил» 98,— писал в ноябре
--------------------------
95 «Weltbuhne», 1931,
N 45, S. 693—694.
96 «Deutsche
Republik», 1931, N 9, S. 259.
97 «Deutsche
Republik», 1931, N 7, S. 195.
98 Cm. «Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft»,
1963, N 6, S. 902.
211
Мы говорим здесь исключительно о соображениях, связанных
с положением и замыслами самих господствующих классов Германии, оставляя в
стороне те мотивы, которые вытекали из хода классовой борьбы в стране. Об этом
речь идет в другом месте работы.
Фашистский террор и его покровители. «Боксгеймские документы»
Нацистский разбой, бушевавший на улицах городов и
деревень Германии, нарастал с каждым месяцем, по мере того как гитлеровцы все
более убеждались в своей безнаказанности, в упорном стремлении
социал-демократической верхушки сохранить раскол рабочего класса и помешать
сплочению его рядов против фашистской опасности. Гитлеровский террор отнюдь не
был стихийным явлением, как утверждали разного рода адвокаты нацистов,
изображавшие кровавые «подвиги» последних как ответные меры, а имел сугубо
планомерный характер; он призван был парализовать волю противников фашизма к
отпору, запугать их чудовищностью нацистских преступлений, которые, как
правило, не влекли за собой сколько-нибудь серьезных наказаний. Документы
показывают, что террористические акты, готовились заранее, что штурмовики и
эсэсовцы проходили в этом отношении тщательную тренировку. Вот как, например,
звучал инструктаж эсэсовцев Берлина на одном из их сборищ 30 июня
Правда, гитлеровцы «устраняли» революционных рабочих,
не останавливаясь ни перед каким шумом; но фашистские убийцы все же
предпочитали творить свое черное дело под покровом ночи, не оставляя следов. В
этом смысле весьма «поучительна» книга одного из ветеранов штурмовых
отрядов, Ломана, в которой он рассказывает, как он и его подручные по ночам
выходили в свои разбойничьи экспедиции по рабочим районам !0°. Не
проходило ни одного дня, чтобы не пролилась кровь антифашистов. Конечно,
гитлеровские преступления, совершенные позднее, особенно в годы второй мировой
войны, столь чудовищны, что перед ними все, что предшествовало, попросту
меркнет. Но в начале 30-х годов фашистский геноцид был еще делом будущего, и
для того времени масштабы на-
---------------------------
99 Фонды
ГМР, 7291 /К Ж445— 11Щ, стр. 1.
100 Н. Lohmann. SA raumt auf! Aus der Kampfzeit der Bewegung. Hamburg, 1939.
212
цистского террора были огромны. Цифровые данные на
этот счет несколько расходятся, но уже тогда число жертв нацистского разбоя
исчислялось сотнями и даже тысячами. А ведь формально еще существовал
республиканский правопорядок и т. п. Согласно самым минимальным подсчетам,
произведенным к тому же еще до окончания
Соответствующие примеры, относящиеся к 1929—1930 гг.,
уже приводились выше. Сейчас мы расскажем о нескольких фашистских злодеяниях во
второй половине
И в полиции, и в судах к этому времени реакционно
настроенных элементов, сочувствовавших гитлеровцам, было в избытке. В печати то
и дело появлялись материалы о прямых связях полицейских чиновников с
организациями гитлеровской партии; нередко нацисты обладали в отделениях
полиции разветвленной агентурой, державшей их в курсе всех намерений
-----------------------------
101 «Vorwarts», 22.XII 1931.
102 Фонды ГМР, 10295/23 Б445— 15В, стр. G,
103 «Rote Fahne», 19.IV 1931.
104 Фонды ГМР, 10295/23
Б445—15Б, стр. 6.
213
своего начальства. В начале
Потворство гитлеровцам являлось в первую очередь
следствием антикоммунизма, которым был охвачен государственный аппарат
Веймарской республики сверху до низу. В интервью, которое генерал Грёнер дал
представителям печати сразу же после своего нового назначения, он предупредил,
что «поставит преграды произволу в политической деятельности», назвав при этом
лишь компартию 107. На первом же совещании министров внутренних дел
земель, созванном им в середине ноября
Антикоммунистической концепции следовали, чуть ли не
все органы печати буржуазного лагеря — от фашистских и полуфашистских, истошно
кричавших о «красном терроре», до относительно умеренных и
социал-демократических. Симптомом, свидетельствовавшим о тенденции развития
«старых» партий
------------------------
105 Фонды ГМР, 30225/41 Г445—11Я1-
106 «Verhandlungen des
Reichstags», Bd. 444, S. 852.
107 Т. Vogelsang. Reichswehr, Staat und NSDAP,
S. 137. Уже накануне преобразования
правительства Грёнер обвинил прусские власти в том, будто они «недостаточно
решительно борются против КПГ» (DZAP, Reichskanzlei, Kabinettssitzungen, N 737,
Bl. 788 244).
108 D. Groener-Geyer. General Greener. Soldat
und Staatsmatm. Frankfurt a / M., 1955, S. 284.
214
буржуазии, была и эволюция, проделанная одним из
оплотов буржуазного либерализма, газетой «Франкфуртер цейтунг». Прежде
выступавшая против любых попыток «играть с огнем», т. е. против допущения нацистов
к власти, она с конца
В последние месяцы
Усиление антикоммунистической кампании было вызвано
различными причинами, среди которых едва ли не важнейшей были наметившиеся
именно к концу
Но для взрыва антикоммунистической пропаганды имелась
и иная, существенная с точки зрения буржуазии, причина, коренившаяся в
проведенных на исходе
---------------------
109 «Frankfurter
Zeitung», 29.I 1932.
110 «Berliner
Borsen-Courier», 7.IX 1931. В конце
сентября этот вопрос рассматривало правительство, но решение принято не было
(DZAP, Reichskanzlei, Kabinettssitzungen, N 737, Bl. 788284).
111 «Berliner
Borsenzeitung», I.XII 1931.
112 «Deutsche Allgemeine Zeitung», 3.XI1 1931.
215
ским учением о классовой борьбе, и объявил любые
действия такого рода несовместимыми с пребыванием в коммунистической партии 113.
Это постановление, нанеся удар сектантским элементам в
партии, укрепило позиции К.ПГ в борьбе за единый фронт и вызвало положительные
отклики со стороны рядовых социал-демократов, а также отдельных руководящих
деятелей СДПГ. Так, председатель социал-демократической фракции в рейхстаге
Брейтшейд, выступая 14 ноября в Дармштадте, приветствовал решение ЦК КПГ,
устранившее, по его словам, большое препятствие между компартией и
социал-демократией114.
Существенное значение имели также упоминавшиеся выше
статьи Э. Тельмана, опубликованные в конце 1931 — начале
Процесс преодоления компартией сектантских ошибок был
делом длительным и чрезвычайно сложным, но сама перспектива этого приводила власть
имущих в бешенство. Еще более свирепыми стали кары, которые обрушивались на
головы антифашистов, оказывавших, действенный отпор нацистскому террору.
Чудовищными кажутся приговоры судов рабочим, особенно коммунистам, если
сравнить их с фактическим амнистированием гитлеровских убийц.
Вот несколько примеров. 22 августа
-------------------------------
113 «Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung», Bd. 4. S.
308.
114 «Vorwarts», 15.X1 1931.
115 Фонды ГМР, 10295/23 Б445— 15Б, стр. 5.
216
О том, что это вовсе не из ряда вон выходящий случай,
свидетельствует приговор по совсем другому делу, разбиравшемуся в Лейпциге. И
здесь, как отмечено в приговоре, «не удалось достичь полного выяснения того,
действительно ли обвиняемый Дюнхард ударил» нациста. Тем не менее, Дюнхард,
62-летний безработный, был осужден на 6 месяцев тюремного заключения. В
качестве «свидетелей» выступали одни нацисты да жандарм116. Это были
относительно легкие наказания, которыми рабочие могли отделаться лишь тогда,
когда ни одному гитлеровцу — зачинщику кровавых потасовок — не было нанесено
мало-мальски серьезного ущерба. В тех же случаях, когда в ходе вынужденного
отпора нацисты получали увечья или даже платились жизнью за свои опасные
провокации, Т5ур-жуазный классовый суд карал антифашистов с необычайной
жестокостью.
Наиболее разительным примером гитлеровского разбоя в
то время, а вместе с тем и его безнаказанности были события, развернувшиеся в
Брауншвейге в октябре
Дикие бесчинства гитлеровцев вызвали неодобрение даже
в некоторой части буржуазной печати. Так, известный буржуазный экономист
Штольпер писал в издававшемся им журнале: «То, что произошло в Брауншвейге,
было бы немыслимо ни в
-------------------
116 ЦГАОР, д. 567, on. l, ед. хр.
117 Е. A. Rotoff. Burgertum ond Nationalsozialismus 1930—1933.
Braunschweigs Weg ins Dritte Reich, S. 75,
217
каком ином цивилизованном государстве Европы» 118.
В газетах отмечалось, что гитлеровцы «хозяйничали в Брауншвейге самым
разнузданным образом» 119.
Совершенно иначе подошел к этим событиям человек,
который призван был являться главным «блюстителем порядка» в стране,— генерал
Грёнер. В частном письме, датированном 1 декабря
Брауншвейгские события вызвали в Германии большой
резонанс. Они вновь и гораздо более наглядно, чем когда-либо, показали всем,
кто не хотел превращения страны в фашистский заповедник, что, собственно, их
ожидает в случае прихода нацистов к власти. Подлая фашистская вылазка не
деморализовала рабочих (именно к этому стремились Гитлер и его подручные), а,
наоборот, мобилизовала и сплотила их. В отпоре озверелым гитлеровским громилам
в Брауншвейге стихийно установился единый пролетарский фронт. В день похорон
жертв фашистского террора, 23 октября, здесь состоялась массовая политическая
забастовка, в которой участвовало 30 тыс. человек— рабочие всех убеждений. Под
впечатлением этих событий во многих местностях страны значительно усилилась
тяга к единству в борьбе против фашизма.
Потворство властей фашистам, сочетавшееся с
сообщениями о тесных контактах правящих кругов с Гитлером, приобрело в это
время столь скандальный характер, что некоторые левобуржуазные организации, а
также СДПГ вынуждены были заявить протест. В ноябре
--------------------------
118 Т. Stolper. Ein Leben in Brennpunkten
unserer Zeit, S. 293.
119 «Frankfurter
Zeitung», l.XI 1931.
120 «Deutsche
Rundschau», 1950, N 12, S. 1017.
121 «Times», 20.X 1931.
218
является ниспровержение государства... Терпимость к
подобной деятельности чиновников ведет к утрате населением какого-либо доверия
к государству и властям»122. Бывших демократов (до
У лидеров СДПГ имелись и более непосредственные
соображения для выступления против открытого и откровенного покровительства
фашистским бандитам со стороны правительства, которое СДПГ поддерживала.
Подобный курс грозил быстрой потерей партией сторонников, чье недовольство
политикой «меньшего зла» становилось все более очевидным. Вот почему Р.
Брейтшейд в уже упоминавшейся речи в Дармштадте вынужден был обратиться к
Брюнингу с предупреждением, подчеркнув, что в столкновениях, между
антифашистами и гитлеровцами виноваты «почти исключительно» последние. Если
правительство не примет необходимых мер для прекращения нацистских бесчинств,
заявил он, социал-демократы лишат его своей поддержки. Брейтшейд сказал, что
«рабочий класс готов вести навязанную ему борьбу всеми средствами», и в этой связи
приветствовал постановление ЦК КПГ, направленное против индивидуального террора
123.
И в этой речи, и в некоторых других выступлениях
деятелей СДПГ, относящихся к концу
Но не успели утихнуть страсти, вызванные разбоем
гитлеровцев в Брауншвейге и другими бесчинствами фашистов, как вся страна была
еще более взбудоражена так называемым боксгеймским делом, обнажившим и существо
нацистской партии, и позицию правящих кругов по отношению к ее замыслам. Свое
название этот эпизод получил по наименованию поместья, где в середине сентября
------------------
122 ЦПА ИМЛ, ф. 215, оп. 1, д. 95.
123 АВП СССР, ф. 82, п. 57, д.
219
В результате ссоры, возникшей вскоре среди руководства
нацистской организации Гессена, «боксгеймские документы» стали достоянием
гласности. Недовольный чем-то окружной «фюрер» из Оффенбаха Шефер сообщил об
этих документах властям Гессена, где главой правительства в то время был
социал-демократ Лейшнер; он познакомил с содержанием указанных документов своего
коллегу по партии министра внутренних дел Пруссии Зеверинга. Что касается
Шефера, то он поплатился за это жизнью; после своего прихода к власти
нацистские убийцы незамедлительно «ликвидировали» человека, из-за которого им в
конце ноября — начале декабря
На поколение, перенесшее вторую мировую войну и
знакомое с ужасами гитлеровского оккупационного режима, с нацистскими лагерями
уничтожения, «боксгеймские документы» могут и не произвести особого .впечатления.
Но для Германии начала 30-х годов, несмотря на уже бушевавший нацистский
террор, они были все-таки очень необычны. Произнесенная Гитлером немногим
больше года назад фраза о том, что «головы покатятся в песок», здесь впервые
приобрела конкретность, и притом весьма зловещую. Немцы впервые воочию
столкнулись с угрозой смертной казни за любой, самый невинный
«проступок»— угрозой, которая после 30 января
Согласно «.боксгеймским документам», казнь ожидала
каждого, кто не будет безоговорочно выполнять все приказы новой власти, кто не
сдаст в 24-часовой срок оружие (для такого рода лиц предусматривался расстрел
на месте), кто откажется работать на новых властителей, не говоря уже о тех,
кто попытается оказать более активное сопротивление. О том, что угрозы не
останутся голословными, свидетельствовало намерение ввести сразу после взятия
власти военно-полевые суды. Имелся также пункт, разрешавший конфискацию
собственности граждан для нужд диктатуры 125.
Опубликование этого откровения нацизма вызвало
подлинную сенсацию в стране (и даже за ее рубежами). Многим колеблющимся,
видевшим в гитлеровской партии «спасительницу нации», документы из Боксгейма
открыли глаза на сущность гитлеризма. Противники фашизма увидели в этих
документах подтверждение своих худших предположений. Возмущение гитлеровской
кликой, хладнокровно готовившей немецкому пароду кровавую баню, охватило весьма
широкие обществен-
-----------------------------------
124 J. Leithauser. Wilhelm
Leuschner. Koln. 1962, S. 72.
125 «Vorwarts», 26.XI
1931; «Ursachen und Folgen vom deutschen Zusammenbruch 1918 und.1945», Bd. VII.
Berlin, 1963, S. 377.
220
ные слои. Повсюду звучали требования принять
действенные меры, которые помешали бы Гитлеру осуществить планы, столь
отчетливо отразившиеся в «боксгеймских документах». Но тут вступили в действие
силы, поставившие себе целью всячески запутать существо вопроса к отвести удар
от нацистской партии.
Сигнал подала сама гитлеровская верхушка, поспешно
отмежевавшаяся от опубликованных документов и объявившая их «личным
творчеством» отдельных лиц 126. То была наглая ложь, и не было
необходимости дожидаться позднейших времен, чтобы удостовериться в этом 127.
Вот что писала, например, нацистская газета «Нейе национальцейтунг»,
издававшаяся в Аугсбурге: «Из этой гессенской программы можно кое-что извлечь.
В первую очередь она показывает, как будет выглядеть официальный язык грядущей
Германской империи: ясный, простой, понятный, определенный, прямой, честный и
обязательный. Каждый знает, что это должно означать» 128. И
действительно, каждый мог бы теперь это знать. Но правобуржуазная пресса горой
встала на защиту гитлеровцев. Она объявила гессенские документы «частным
большевистским (!) манифестом группы национал-социалистов» и требовала
«справедливости» по отношению к гитлеровской верхушке 129. Другие
вообще изображали кровожадные проекты нацистов как «продукт детскости и
легкомыслия» 130.
Еще одна уловка, к которой прибегли нацисты и их
покровители, заключалась в утверждениях, будто меры, предусматривавшиеся этими
документами, должны быть предприняты лишь на случай «коммунистического путча» и
послужить ответом на него. Этот новый вариант излюбленного реакцией
«коммунистического жупела» был в данных условиях настолько фальшив, что даже
некоторые органы буржуазной печати осмеивали его. «Коммунистический путч,—
писала «Фоссише цейтунг»,— это патентованное средство для того, чтобы
организовать «национальную революцию»» 131.
Совершенно иной была позиция властей, начиная с
имперского правительства вплоть до местных полицейских чиновников, активно
сочувствовавших гитлеровцам. Тон безусловно за-
---------------------
126 Можно напомнить подпись, «украшавшую» портрет Гитлера
в «Коричневом доме»: «В этом движении ничего не происходит помимо моей воли» (D.
Orlow. The History of the Nazi party 1919—1923, p. 201).
127 Это не мешает некоторым буржуазным авторам и в наши
дни повторять, что «Гитлер ничего не знал об указанных документах» (Н.-О.
Meissner, Н. Wilde. Die Machtergreifung. Stuttgart, 1958, S. 52.
128 ЦПА ИМЛ, ф. 215, on. 1, ед. хр. 97.
129 «Berliner
Borsen-Courier», 26.XI 1931.
130 «Deutsche
Allgemeine Zeitung», l.XII 1931.
131 «Vossische Zeitung», 17.XII 1931.
221
давал
сам Брюнинг, который, как видно из архивных документов, не принимал
«боксгеймские документы» слишком серьезно; он придерживался мнения, что они не
представляют собой достаточного основания для насильственных мер против партии
Гитлера132. В этом, как впрочем и во многом ином, он был единодушен
с руководством рейхсвера, не находившим ничего предосудительного в кровавых
угрозах нацистов и приравнивавшим их к претензиям «Рейхсбаннера» на роль
«вспомогательной полиции» 133,
По некоторым сведениям, гессенское и прусское
правительства предложили Тренеру запретить штурмовые отряды, но тот отклонил
это предложение 134.
Брюнинг, который, как явствует из его мемуаров, хорошо
понимал, что «боксгеймские документы» имеют отнюдь не местное, а общее
значение, отдал генеральному прокурору распоряжение быть «осторожным» и «не
преувеличивать» важности дела135. Формально против Беста было начато
следствие. Но ведение дела поручили человеку, снискавшему ненависть всех,
прогрессивно мыслящих немцев,— тому самому Иорнсу, который в 1919 году
«расследовал» убийство Р. Люксембург и К- Либкнехта, дав возможность убийцам
избежать какого-либо наказания. Имелись все основания предположить, что этот
реакционер сделает все, чтобы выгородить нацистских разбойников. Так оно и
получилось. С помощью Иорнса генеральный прокурор Вернер прежде всего
постарался затянуть дело и тем самым лишить его остроты. В условиях напряженной
политической борьбы в Германии тех лет откровения Беста мало-помалу отошли на
второй план, и в октябре
Пожалуй, даже не будь множества аналогичных случаев
судебной практики кануна установления гитлеровской диктатуры, этого факта было
бы достаточно, дабы дать представление о том, какой степени достигло потворство
нацистам в тот период. Конечно, оно еще нуждалось в маскировке, но нередко
приобретало совершенно, откровенный и циничный характер. В крупном промышленном
центре Саксонии Хемнице, например, полиция запретила листовку о гессенских
нацистских документах, выпущенную местной организацией социал-демократической
партии под названием «Так начинается Третья империя». Обо-
---------------------------
132 Т. Vogelsang. Reichswehr, Staat
und NSDAP, S. 147.
133 Ibid., S. 146.
134 H.-O. Meissner, H. Wilde. Die
Machtergreifung, S. 52.
136 H. Bruning. Memoiren 1918—1934, S. 463. В качестве причины Брюнинг
указывает все то же стремление привлечь нацистов к переизбранию Гинденбурга.
222
снование этого запрета было таково: «Дело д-ра Беста
еще совершенно не выяснено и спорно. Рассмотрение его в листовке, к тому же в
том духе, что поступок д-ра Беста ставится в вину национал-социалистской
партии, призвано... нарушить общественную безопасность и порядок» 136.
Одновременно полиция запретила демонстрацию «Рейхсбаннера» в Хемнице; сборище
же гитлеровцев было разрешено (по некоторым сведениям, на нем должен был
выступить... сам Бест!) 137.
Можно ли удивляться этому, если нацистскую организацию
в Хемнице возглавлял некий Фациус, лишь незадолго до рассматриваемых событий
ушедший, в чине майора, со службы в полиции? Он и после этого имел
свободный доступ в полицейские казармы. «К национал-социалистам,— писала
социал-демократическая газета «Дас Фольк» 7 декабря
Еще хуже было положение в сельских местностях, где у
власти, как правило, стояли рьяные приверженцы реакционных организаций.
Это очень хорошо видно из письма одного
социал-демократа, проживавшего в районе Штеттина (ныне Щецин, Польская Народная
Республика). Автор сообщал, что, несмотря на запрет ношения формы,
существовавший в то время (начало
Гитлеровский террор и потворство ему со стороны
властей, конечно, действовали на противников фашизма деморализующе. Но в то же
время рос отпор террору, росло сопротивление наступлению капитала на
трудящихся.
------------------
136 ЦПА ИМЛ, ф. 215, оп. 1, ед. яр. 210.
137 «Vorwarts», 6.XII 1931.
138 «Das freie Wort», 1931, N 7,
S. 25.
223
Выше уже упоминались требования организаций
германского монополистического капитала, обращенные в конце сентября
События лета
Наиболее важным документом такого рода и было
упомянутое заявление Союза германской промышленности от 29 сентября
---------------------
139 «Ursachen und
Folgen vom deutschen Zusammenbruch 1918 und 1945», Bd. 8. Berlin, 1962, S. 170.
140 «Berliner Borsen-Courier», 6.IX 1931.
224
стемы и арбитража с целью ликвидации принудительности
последнего и восстановления собственной ответственности сторон» 141
Более конкретный характер имел секретный меморандум «Объединения союзов
работодателей», принятый также в сентябре и немедленно доведенный до сведения
правительства. Здесь речь шла о необходимости единовременного существенного
снижения тарифных ставок зарплаты —до уровня начала
Эти требования были приняты правительством к
исполнению. Уже в своей программной речи в рейхстаге 12 октября, после реорганизации
кабинета, Брюнинг дал понять, что соответствующие меры будут приняты. Он
заявил, что, хотя идея тарифного договора сама по себе «правильна», она
нуждается в большей эластичности при ее осуществлении 143. В течение
октября—ноября быстрыми темпами шла разработка проекта чрезвычайного закона,
который воплотил бы в жизнь предначертания крупного капитала. К началу декабря
эта работа была в основном закончена; во всяком случае, на заседании
правительства 3 декабря, среди других вопросов, фигурировало утверждение
«текста директив для расшатывания тарифной системы» 144.
В качестве же предварительной меры правительство
Брюнинга еще 6 октября издало «малый» чрезвычайный декрет. Конечно, он не
соответствовал далекоидущим требованиям монополистического капитала, но был
звеном вес того же курса, целью которого было снизить до минимума ущерб,
причиняемый экономическим кризисом буржуазии, переложив его тяготы на рабочий
класс. Декрет вновь снижал срок выплаты основного пособия по безработице (с 26
до 20 недель) и предусматривал возможность выплаты определенной части его
продуктами, что, без сомнения, должно было привести к сокращению и без того
мизерных размеров пособия. Правительство рекомендовало также вводить на
предприятиях так называемую крумперную систему, при которой считается занятым
примерно вдвое большее число рабочих, чем это необходимо в соответствии с
процессом производства; они в определенной последовательности чередуются на
работе. Система эта была выгодна лишь капиталистам, ибо она позволяла не выплачивать
пособия некоторому числу людей, хотя по своему положению они фактически мало,
чем отличались от 'безработных.
Новый декрет означал дальнейшее ограничение
самоуправления общин, прежде всего в области финансов. Правитель-
------------------------
141 «Deutsche Allgemeine
Zeitung», 30.IX 1931.
142 «Vorwarts», l.XII 1931.
143 «Verhandlungen des
Reichstags», Bd. 446, S. 2072.
144 DZAP, Buro des
Reichsprasidenten, N 56, Bl. 128.
225
ствам земель (вспомним, что в некоторых из них уже
хозяйничали нацисты) предоставлялись полный контроль над бюджетом общин и право
в чрезвычайном порядке снижать их расходы. Целью правительства Брюнинга было
лишить общины каких-либо возможностей «перерасходования» средств в помощь
безработным и другим категориям остронуждающихся, хотя на попечении
благотворительности находились миллионы людей (несколько позже, весной
Но октябрьский декрет, по существу подготовленный еще
до появления программы предпринимательских организаций, датированной 29
сентября
Впервые прямым правительственным распоряжением
предписывалось снижение заработной платы рабочим, занятым на частных
предприятиях. Она устанавливалась на уровне начала
-------------------
145 «Zwei Jahre
Bruning-Diktatur. Von Bruming zu Papen. Handbuch der kommunistischen Reichstagsfraktion», Berlin, 1932, S. 32.
146 «Rote Fahne», 15.XII
1931.
226
Тяжело ударил декрет по чиновникам и рабочим, занятым
на предприятиях, находившихся в собственности государства. Жалованье чиновникам
снижалось на 9%, зарплата рабочим государственных предприятий — на 10%. Это
было уже третье за полтора года снижение доходов этих категорий; оно составляло
в общей сложности более 20%. Декрет предусматривал резкое сокращение расходов
страхования по болезни; продолжительность выдачи такого пособия снижалась до
минимума, и оно ни при каких условиях не должно было превышать 50% зарплаты.
Огромную сумму — 750 млн. марок — было намечено сэкономить за счет пенсионеров
различных категорий, чей жизненный уровень был едва ли не самым низким, даже по
сравнению с безработными. У немалого числа рабочих, ставших жертвами несчастных
случаев на производстве, пенсии отбирались полностью, другим вновь снижались 147.
Зато имущие классы выиграли не только в результате
этих мер, но и благодаря ряду других положений декрета. Предусматривалось
снижение ставок различных налогов на имущество, тарифов на железнодорожные и
водные перевозки, оплаты почтовых и других услуг, что составило несколько сот
миллиардов марок. Новые значительные преимущества были предоставлены
домовладельцам — на 25% уменьшались проценты по ипотекам и намечалось в течение
ближайших лет отменить налог на домовладения (при сохранении квартирной платы
на высоком уровне).
Чтобы как-то замаскировать невиданное ограбление
трудящихся масс, в декрет были включены статьи о снижении цен и стоимости
некоторых коммунальных услуг. Декретировалось 30-процентное снижение картельных
цен, а также сокращение (на 7—10%) квартирной платы, стоимости проезда на
транспорте и т. д. В своем заявлении правительство утверждало, будто эти меры
могут уравновесить снижение зарплаты и социальных расходов 148.
Одновременно был назначен имперский комиссар по ценам, призванный обеспечить
соблюдение указанного пункта чрезвычайного декрета. Им стал бывший
обер-бургомистр Лейпцига Герделер, реакционно настроенный деятель, примы-
-------------------------------------
147 «Bruning-Diktatur in Bruning-Deutschland.
Zur IV. Notverordnung». Berlin, 1932. Все
это отнюдь не мешало Г. Пюндеру уже в наши дни написать, что в данном декрете «было
найдено такое решение вопросов, образцов для которого не имелось в истории
цивилизованного (!) человечества» (Staat, Wirtschaft und Politik in der Weimarer
Republik, S. 314).
148
«Berliner Tageblatt», 9.XII 1931. Характерно, что в самом декрете содержался
пункт о повышении налога на торговый оборот с 0,85 до 2%. Ввиду того, что налог
этот взимался в каждом случае перехода товара из одних рук в другие, он
содействовал удорожанию многих изделий широкого потребления. В общей сложности
это удорожание составляло не менее 900 млн. марок («Hunger-Diktatur in
Bruning-Deutschland», S. 7).
227
кавший к партии националистов (в годы второй мировой
войны Герделер стал во главе верхушечного заговора, имевшего целью сохранить в
Германии реакционный режим ценой устранения Гитлера).
Маневр со «снижением» цен не впервые применялся
Брюнингом, когда речь заходила о сокращении социальных расходов. Но в декабре
Деятельность Герделера на посту комиссара по ценам
оказалась весьма недолговечной, ибо задача, возложенная на него, была, как
видно, непосильна. Герделер не внял советам печатного органа социал-демократов,
требовавшего от комиссара по ценам «немедленного заявления, что он будет
подавлять саботаж по всей линии, включая Союз германской промышленности,
Объединение союзов работодателей и г-на Шиле (министр продовольствия.— Л. Г.)» 150.
Мы коснулись сейчас точки зрения
социал-демократического руководства на последствия чрезвычайного декрета от 8
декабря
---------
149 «RoteFahne», 2.III 1932.
150 «Vorwarts», 7.II 1932.
151 «XII пленум Исполкома Коминтерна. Стеногр. отчет», т.
I. M., 1934, стр. 124.
228
буржуазного государства, будто бы осуществляющего
«вторжение в хозяйственную жизнь в интересах всего общества» 152.
Гильфердинг вещал: «Сделан шаг, разрывающий
капиталистическое право... Это неслыханный с капиталистической точки зрения
прецедент»153. Официальный ежегодник СДПГ характеризовал декабрьский
декрет, как «колоссальное потрясение всех идеологических основ
капиталистической системы» (!) 154. Но «потолка», вероятно, достигла
в этом смысле гамбургская газета СДПГ, писавшая, что в чрезвычайном декрете «с
необычайной силой выразилось то, что закреплено в социал-демократической
программе в качестве марксистских взглядов» 155. «Элементами
социализма» также провозглашались явления, характерные для капитализма эпохи
его общего кризиса, а именно рост государственно-капиталистических, тенденций.
Наряду с проведенной летом
Опыт новейшей истории Германии полностью подтвердил
ленинскую точку зрения. Начало 30-х годов было временем, когда развитие
государственно-монополистического капитализма ускорилось, проложив путь
гигантскому усилению его в период фашистской диктатуры. К началу
-----------------
152 «Jahrbuch der
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 1931». Berlin, 1932, S. 43.
153 «Gesellschaft»,
1932, N 1, S. 10.
154 «Jahrbuch der SPD
1931», S. 7.
155 «Hamburger Echo»,
10.XII 1931.
155 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т.
25, стр. 414.
157 «Новые материалы к работе В. И. Ленина
«Империализм, как высшая стадия капитализма». М., 1936, стр. 115.
229
талистов или их совокупного представителя —
буржуазного государства.
Приукрашивание роли этого государства было в тот момент
особенно опасно ввиду того, что его реакционность, как мы видели, неуклонно
возрастала, о чем свидетельствовало дальнейшее сближение правящих кругов с
наиболее агрессивной политической силой страны — гитлеровской партией. Весьма
характерны в этом смысле почерпнутые нами в архиве циркуляры министерства
иностранных дел Германии, адресованные всем посольствам, миссиям и консульствам
и датированные 8 и 18 декабря
Фашистский главарь, заинтересованный в поддержке со
стороны английских и американских монополистов, сделал здесь сенсационное
заявление, что его правительство будет уважать частные долги зарубежным
кредиторам 158. Комментарии министерства иностранных дел были
выдержаны в сугубо благожелательном по отношению к гитлеровцам духе.
Указывалось, в частности, что нацисты фактически отказались от прежней своей
программы, содержавшей «радикальные» требования. «Как раз в последнее время с
особенным акцентом провозглашается безоговорочное признание частной
собственности»,— говорится в первом циркуляре, а общий вывод, сделанный в этом
документе, гласит: «Решающее влияние в руководстве партией ныне безусловно
имеет правое крыло, и похоже, что у Гитлера нет намерений при взятии власти
немедленно осуществить какие-либо из ряда вон выходящие
хозяйственно-политические меры» 159.
Что касается внешнеполитических целей гитлеровской
партии, то, по словам статс-секретаря министерства Бюлова, они «не отличаются
существенно от целей, которые преследовали имперское правительство и его
предшественники». Симптоматично, что в циркуляре подчеркивается приверженность нацистов
идее германской экспансии на восток. В заключение, характеризуя эвентуальный
внешнеполитический курс гитлеровцев в случае их прихода к власти, Бюлов писал:
«Можно полагать, что они в основном будут продолжать внешнюю политику прежних
правительств — с единственным отличием, что они больше будут действовать делом,
чем словами» 160.
--------
158 «New York Times», 5.XII 1931.
159 Историко-дипломатический
архив, ф. 90, on. 1, д. 99, лл. 2, 9.
160 Там же, лл. 10, 12, 19.
230
Конечно, то была явная дезориентация, но она, тем не
менее, достигала цели. Успокоительные заявления, обращенные за рубеж, привлекли
Гитлеру новых друзей в лагере крупного капитала, реверансы же в сторону
нацистов, якшанье с ними государственных деятелей внутри страны способствовали росту
влияния гитлеровской партии. Не случайно на первых же земельных выборах,
состоявшихся после приема Гитлера президентом республики и создания
Гарцбургского блока, нацисты добились весьма крупного успеха. Выборы произошли
15 ноября в Гессене, и гитлеровцы получили здесь 37,1% всех голосов. Это почти
повторяло собой наибольшую к тому времени избирательную победу, одержанную
фашистами в мае
Близился 1932 год — решающий год в ожесточенной борьбе
сил демократии и реакции, которая развернулась в Германии в связи с
наступлением фашизма. Перевес сил в этой борьбе явно складывался в пользу
последнего. Но исход ее отнюдь не был еще решен.
231
ГИТЛЕРОВЦЫ УСИЛИВАЮТ НАСТУПЛЕНИЕ
Экономическая разруха в стране и положение трудящихся
Наступивший 1932 год был уже третьим годом
жесточайшего экономического кризиса, наиболее тяжелым для германских
трудящихся. Дезорганизация капиталистической экономики, которая, казалось,
достигла предела в предшествующий период кризиса, продолжала нарастать, а
лишения и бедствия довели до полного обнищания новые миллионы людей. И хотя в
течение
К началу
Хроническая недогрузка производственных мощностей вы-
----------
1 «Мировые
экономические кризисы 1848—1935 гг.», т.
232
росла в рассматриваемые годы до невероятных размеров.
К началу
За время кризиса в 2,5 раза упали обороты внешней
торговли 4, несмотря на то, что Германия по существу прибегала к
демпингу, компенсируя потери от продажи товаров по пониженным ценам за рубежом
взвинчиванием цен внутри страны. Для Германии, остро нуждавшейся в иностранной
валюте (в первый период кризиса — прежде всего в связи с необходимостью вносить
репарационные платежи, а после их отсрочки — в связи с обязательствами по
выплате иностранных долгов и процентов по ним), резкое падение экспорта
было особенно ощутимым.
Невиданные масштабы приобрела в
--------------------
2 Там же, стр. 575.
3 Там же, стр. 403, 230—231, 259.
4 «Statistisches Jahrbuch fur das
Deutsche Reich», 1933, S. 185.
5 «Vierteljahrshefte fur
Konjunkturforschung», 1933, H. 1, Teil 8, S. 215.
6 «СССР и капиталистические страны.
Статист, сборник». М., 1939, стр. 15. уже в мае
233
чатанной в феврале
Бедственное положение этих людей усугублялось тем, что
большинство их было лишено работы в течение двух, трех, а то и четырех лет.
Вместе со своими семьями они были обречены на медленное умирание. Выше уже
подробно говорилось о том, как резко были за годы кризиса снижены размеры
пособий по безработице, а также сроки его выдачи. «Нормальное», драконовски
урезанное пособие получали в
Эта прослойка рабочего класса (в
За всеми этими цифрами стояли сотни тысяч человеческих
трагедий. Да и как могло быть иначе, если молодой, полный сил человек вынужден
был жить на 5 марок в неделю, которые с большой неохотой выплачивали ему органы
благотворительности, а женатый рабочий, имеющий детей,— на 10— 12 марок? 12
Не случайно в период кризиса в Германии необычайно возросло число самоубийств.
По данным, относящимся к 1930—1931 гг., ежегодно 21 тыс. человек кончали с
собой,
--------------------------
7 См. У. Kuczynski. Die
Geschichte der Lage der Arbeiter unter dera Kapitalismus, T. I, Bd. 15. Berlin,
1963, S. 117.
8 «Internationale
Rundschau der Arbeit», 1933, N 8, S. 703.
9 «Мировые экономические кризисы...», т. 1, стр. 594—595.
10 Ю.
Кучинский. История условий труда в Германии.
М., 3949, стр. 264 и ел.
11 А.
Сидоров. Фашизм и городские средние
слои в Германии. М., 1936, стр. 103.
234
отчаявшись найти выход из тупика, в который завел их
буржуазный строй 12. В
Не менее страшен был моральный ущерб, наносимый годами
вынужденного безделья и приводивший подчас к измене классовым позициям и
переходу в ряды нацистов. Кризис нанес колоссальный ущерб и работникам
умственного труда, десятки тысяч которых годами были лишены занятия по
специальности и считали себя счастливыми, даже если удавалось хотя бы на время
получить работу в качестве посыльных, разносчиков, судомоек и т. п. Отчаянное
положение интеллигентов толкнуло и многих из них в объятия нацистов, являвшихся
на деле злейшими врагами культуры. Виной этому был капиталистический строй, для
которого сотни тысяч работников культуры оказались «лишними».
Экономический кризис весьма заметно и ощутимо сказался
и на положении тех рабочих и служащих, которые оставались на производстве.
Колоссальная безработица помогала капиталистам добиваться все нового снижения
зарплаты. Лишь в течение
Как было показано выше, германские монополисты вели
все более разнузданное наступление на жизненный уровень пролетариата.
Крупнейшими их успехами на этом пути были чрезвычайный декрет от 8 декабря
-----------------
12 «Правда», 9.XI 1931.
13 L.Mosse. The crisis
of German Ideology. London, 1964.
14 «Finanzpolitische
Korrespondenz», 1932, N 7-8, S. 1.
l5 Ю.Кучинский.
История условий труда в Германии, стр.
16 «Мировые экономические кризисы...», т.
1, стр. 405.
235
декабре
Резкое падение доходов рабочего класса тяжело
отразилось на положении средних слоев города — ремесленников, мелких торговцев
и т. д. Так, например, оборот ремесленного производства сократился в
Гигантская безработица и серьезное понижение
жизненного уровня населения городов сильнейшим образом ограничили сбыт
сельскохозяйственных продуктов и тяжело отразились на положении крестьянства.
Перепроизводство продуктов сельского хозяйства — результат затяжного аграрного
кризиса, который тесно переплелся с промышленным, усугублялось политикой
протекционизма, проводившейся правительствами Брюнинга и Папена. В январе
----------------------------------
17 У. Kuczynski Die Geschichte der Lage der
Arbeiter unter dem Kapitalismus, T. I, Bd. 15, S. 140.
18 А.
Сидоров. Фашизм
и городские средние слои в Германии, стр.
97—100.
19 «Zwei Jahre Bruning-Diktatur», S. 61.
236
Угрожающе нарастали долги трудящихся крестьян байкам;
к концу
Не удивительно, что столь резкое и длительное ухудшение
положения подавляющего большинства населения страны вызывало растущее
недовольство широких масс господствующей социальной системой. Это недовольство
было основой серьезных изменений в расстановке классовых сил в стране на
протяжении
Монополии и их союзники-нацисты
Выше уже говорилось о том, что потребности борьбы за
массовую базу вновь и вновь побуждали гитлеровцев прибегать к
антикапиталистической демагогии, а это отпугивало некоторую часть
монополистического капитала, принимавшую лживые филиппики нацистов против
«хищнического капитала» всерьез21. С течением времени Гитлер,
стремясь добиться расположения наиболее влиятельных группировок крупной
буржуазии, придавал все большее значение «разъяснительной» работе среди тех
королей угля и стали, которые пока относились к его партии сдержанно. Многое в
этом смысле, как отмечалось, делал Шахт. Но он был не единственным, кто
выполнял эту важную Для гитлеровцев задачу. С начала 30-х годов па роли
советников «фюрера» по экономическим вопросам выдвигаются также Функ и Кеплер, располагавшие
большими связями в мире
-----------------------
20 А. Петрушов.
Аграрные отношения в Германии. М.,
1945, стр. 53.
21 Вместе с
тем среди монополистов было
немало и таких, кто хорошо понимал служебное назначение «социалистической»
фразеологии нацистов. Так, один из ведущих органов тяжелой промышленности
писал, что «использование слова «социализм» в; качестве вывески... надо
всемерно приветствовать» («Deutsche Bergwerkszcitung», 23.VII 1932),
237
крупного бизнеса. Функ еще до середины
«Мои друзья-промышленники и я,— писал Функ,— были убеждены
в то время, что национал-социалистская партия в недалеком будущем придет к
власти и это должно произойти, чтобы избежать коммунизма и гражданской войны»23.
Из записки Функа известно, что, помимо Кирдорфа, Тиссена и Фег-лера, давними
сторонниками Гитлера были также Тенгельман (Гельзенкирхенское акционерное
общество), Шпрингорум (группа Хеша), Кнеппер (председатель или член
наблюдательных советов 35 трестов и предприятий), Бускюль (директор
трубопрокатной компании Маннесмана), Келлерман (концерн Ганиеля). С нацистами,
согласно заявлению Функа,—а его осведомленность в этой области не вызывает
сомнений — были связаны руководители крупных пароходных компаний Гамбурга во
главе с бывшим рейхсканцлером Куно и коммерческие круги Бремена, от имени
которых связь с нацистами поддерживал Розелиус. Функ не афиширует своих заслуг
в этой области, но отмечает, что он обеспечил гитлеровской клике
благосклонность ряда крупных финансистов, в том числе Фишера, возглавлявшего
«Дейче кредитгезельшафт», и Рейнгардта — главы «Приват-унд-Коммерцбанк», а
также королей немецкого страхового капитала Шмитта (в дальнейшем министр
экономики фашистской Германии) и Хильгарда24. О деятельности Функа
рассказывает в своих мемуарах буржуазный политический деятель Рейнбабен: «В те
времена я во многих гостиничных холлах и клубах встречал будущего гитлеровского
пресс-шефа и министра экономики Функа. Каждому он рассказывал, что Гитлер, само
собой разумеется, не затронет частное хозяйство и
-----------------------
22 О том же
сообщает в своих мемуарах близкий к магнатам Рура буржуазный ученый-правовед Ф.
Глум (F. Glum. Zwischen Wissenschaft,
Wirtschaft und Politik. Erlebtes und Erdachtes in 4 Reichen. Bonn,
1966, S. 410).
23 «Nazy Conspiracy
and Aggression», Supplement A. Washington, 1947, p. 1194.
24 Ibid., p.
1195-1196.
238
что под его руководством экономика Германии быстро
достигнет расцвета».
Не удивительно, что в течение 1931—1932 гг. Федер все
более отходил на второй план. По сообщению К. Гейдена, Функ, улыбаясь,
рассказывал в кругу коллег, что Гитлер «быстро и хорошо воспринимает»
передаваемые им (Функом) пожелания26. Происходило, таким образом,
дальнейшее подчинение гитлеровской партии монополиям, о чем свидетельствовали,
например, изменения, внесенные нацистами в свою программу.
Если раньше гитлеровцы обещали национализировать
концерны, синдикаты и тресты, то в издании
На улицах еще продолжали раздаваться вопли о
«процентном рабстве», а в программе — с нею знакомились немногие приверженцы
партии — все уже выглядело иначе. Коротко это сформулировал сам Гитлер в одной
из бесед с Г. Раушнингом в
---------------------
25 W. von Rheinbaben. Viermal
Deutschland. Aus dem Leben eines Seemanns, Diplomaten, Politikers, 1895—1954. Berlin,
1954, S. 301.
26 K. Heiden. Adolf Hitler. Die
Zeit der Verantwortungslosigkeit. Eine
Biographie. Zurich, 1936, S. 287.
27 См. «Коричневая книга о поджоге
рейхстага и гитлеровском терроре». М., 1933, стр. 24; W.
Ulbricht. Der faschistische deutsche Imperialismus. Berlin, 1952, S. 20. Любопытно, что в качестве примера фигурирует и Борзиг,
«санированный» государством. В ноябре
28 Н. Rauschning. Gesprache mit Hitler. New York, 1940, S. 26.
239
ком здесь выступил ближайший сотрудник Флика О.
Штейнбринк, хорошо знакомый с Функом. Подробности его действий известны из
материалов судебного процесса над Фликом и другими руководителями концерна,
состоявшегося в
Именно Штейнбринк подал нацистам идею об установлении
тесного контакта со Шредером — главой известного банкирского дома, имевшего
дочерние предприятия в Англии и США, В этом недвусмысленно сказалась
заинтересованность магнатов капитала в популяризации нацистской партии среди
англо-американских бизнесменов. Выше уже упоминалось заявление Гитлера
англо-американским журналистам в начале декабря
К концу 1931—началу
-----------------
29 Е. Czichon. Wer verhalf Hitter zur Macht? Koln,
1967, S. 30.
30 «Trials of War
Criminals before the Nuremberg Military Tribunals» (далее — «Trials»), vol .VI. Washington, 1952, p. 233.
31 «Fall 5.
Anklagepladoyer, Ausgewahlte Dokument, Urteil des Flick-Prozesses». Berlin, 1965, S. 294—295.
240
циативе Гитлера с целью привлечения крупных
капиталистов к пересмотру экономической программы нацистской партии. В беседе с
Кеплером в декабре
Члены кружка собирались примерно раз в месяц, давая
рекомендации по вопросам экономической политики, корректируя те, «рискованные»
с точки зрения монополистического капитала, проекты, с которыми еще выступали
порой сторонники Федера. Кеплер сообщил подробности одной из таких встреч в мае
Приведенные слова по своей откровенности поистине
неповторимы. В них заключена вся, с позволения сказать, «философия» германского
крупного капитала в рассматриваемое время: он мечтал взять рабочий класс за
горло, но еще сомневался в том, удастся ли это сделать Гитлеру и его клике.
Стремясь рассеять подобные сомнения, Гитлер не жалел усилий, ибо от этого
зависела судьба его замыслов. Вот почему столь обрадовало нацистов приглашение,
полученное в начале
-------
32 Как видно из одного документа,
предъявленного обвинением на процессе Флика, между Штейнбринком и Гиммлером уже в
33 Ibid., p. 290.
34 Ibid., p. 286.
241
тов, а впереди были президентские выборы.
Непосредственная поддержка пушечных королей была бы как нельзя более кстати.
Индустриальный клуб в Дюссельдорфе был излюбленным местом встреч воротил
крупной промышленности; здесь выступали только '«избранные» персоны, лица,
которые действительно могли чем-то заинтересовать фактических хозяев страны. 27
января
И Гитлер вполне удовлетворил их. Его доклад
представителям «делового мира» длился несколько часов. Опубликованный в виде
брошюры текст доклада изменен (по сравнению с выступлением), но и он дает
достаточное представление о том, какого рода положениями стремился Гитлер
прельстить слушателей. Основная часть речи была посвящена обоснованию тезиса о
том, что «хозяйство» — иными словами монополии — может успешно развиваться лишь
при могущественной государственной власти. Это был один из краеугольных камней
нацистской идеологии, и он мог вызвать у многих слушателей одобрение. Но,
пожалуй, еще приятнее было им, когда оратор перешел к вопросу о вооружении
Германии. Он ратовал за воссоздание крупной армии; касаясь усилий правительства
Брюнинга добиться увеличения рейхсвера, Гитлер отрицал значение того, будет ли
армия насчитывать 100 или 300 тыс. человек 35. Программа нацистов,—
а она соответствовала целям германского империализма,— предусматривала создание
миллионных полчищ. И это не могло не вызвать энтузиазма у собравшихся пушечных
королей Рура. «Речь Гитлера,— пишет известный левобуржуазный историк Г.
Хальгартен,— лишила вождей экономики последних сомнений в том, что его
программа предусматривает вооружение Германии» 36.
Гитлер заявил далее, что причиной бедственного положения,
в котором находится страна, является вовсе не Версальский договор. Нельзя,
утверждал он, создать «сильную и здоровую
--------------------------------
35 «Vortrag
Adolf Hitlers vor westdeutschen Wirtschaftlern irn Industrieklub zu
Dusseldorf». Munchen, 1932, S. 24.
36 G. W. F.
Hallgarten. Hitler, Reichswehr und Industrie. Zur Geschichte der Jahre 1918—1933.
Frankfurt a/M., 1955, S. 104.
242
Германию», если 50% населения настроено большевистски.
Здесь слушатели наградили Гитлера горячими аплодисментами. Так же были
встречены и многие другие места речи, в частности тезис о том, что белая раса
может удержать свои позиции только при условии сохранения различного уровня
жизни на земном шаре, и выпады против Советского Союза, по словам Гитлера,—
самого крупного конкурента Германии в экономической области, и т. п.
Начальник отдела печати гитлеровской партии О. Дитрих
(лишь в недавнем прошлом покинувший «деловой мир»), слушал речь фюрера» и
внимательно наблюдал за аудиторией. «Впечатление, произведенное Гитлером на
этот круг исключительно трезвых слушателей,— писал О. Дитрих, сам выходец из
того же сословия,—поразительно»37. Почти в тех же словах
охарактеризовал реакцию аудитории и организатор выступления Тиссен. Отметив
«глубокое впечатление», он сообщает о «ряде крупных взносов от тяжелой
промышленности в фонд национал-социалистской партии», явившихся прямым
следствием дюссельдорфской конференции 38.
«С тем же успехом», т. е. и с определенной
материальной выгодой, Гитлер, по словам Дитриха, выступил 28 января
---------------------
37 О. Dietrich. Mit Hitler in die
Macht. Munchen, 1934, S. 49. Грубо фальсифицирует факты западногерманский историк В. Тройе, заявляя теперь, будто между Гитлером и аудиторией не возникло «подлинного взаимопонимания» («Die Staats- und
Wirtschaftskrise des Deutschen Reichs 1929/33». Stuttgart, 1967, S. 121).
38 F. Thyssen. I Paid Hitler. New York —
Toronto, 1941, p. 101. Об энтузиазме
слушателей, вызванном выступлением Гитлера, вспоминал после войны и
правобуржуазный политический деятель Яррес, в те годы являвшийся председателем
дюссельдорфского Индустриального клуба (Е. Czichon. Wer verhalf
Hitler zur Macht?, S. 27).
39 O.Dietrich. Mit Hitler in die Macht, S. 49-
40 А.Норден. Уроки германской
истории. М., 1948, стр. 97.
243
Борьба за пост президента республики
Полномочия Гинденбурга истекали весной
С этим планом солидаризировались не только партии
правительственной коалиции, но и руководство социал-демократии; оно лишь
оговорило свое согласие требованием, чтобы Гитлер принял кандидатуру
Гинденбурга без каких-либо условий41. После предварительного зондажа
(при посредстве Шлейхера) 6 января
Стремление Брюнинга добиться соглашения по этим
вопросам до включения фашистов в правительство объяснялось, в частности, тем,
что в других странах, даже в среде господствующих классов, были весьма велики
опасения насчет политики гитлеровцев после их прихода к власти. Правда, Гитлер,
желая завоевать на свою сторону американских и английских монополистов, чья
поддержка была очень важна для
-------------------------
41 «Vorwarts», 8.1
1932.
42 Н. Bruning, Memoiren 1918—1934. Stuttgart,
1970, S. 501,
43 «Kolnische
Zeitung», l.VI 1933,
244
германского фашизма, не скупился на успокоительные
заявления, лейтмотивом которых была совместная заинтересованность в борьбе
против «угрозы коммунизма». Но правящие круги Германии, державшие курс на
аннулирование репарационных платежей и отмену статей Версальского договора,
ограничивавших вооружение Германии, не хотели рисковать, предпочитая добиться
этого руками Брюнинга, слывшего сторонником сотрудничества с западными
державами.
Стремясь достичь договоренности с нацистскими
лидерами, правительство как раз в это время сделало шаг, который был расценен
прессой всех направлений как важная уступка им. Мы имеем в виду приказ военного
министра от 29 января
К тому же времени—11 января — относится весьма лестная
характеристика, которую Грёнер, незадолго до этого впер- -вые встретившийся с
Гитлером, дал последнему на совещании в министерстве внутренних дел. Фашистский
главарь оказался, по словам генерала, «симпатичным, скромным, порядочным
человеком, стремящимся к лучшему». Его намерения и цели хороши, хотя не все
средства приемлемы; генерал сказал Гитлеру, что он разделяет многие идеи
«фюрера». Обращаясь к провинциальным властям, Грёнер категорически потребовал
от них. чтобы они «справедливо» относились к нацистам. «Бороться надо только
против наростов, но не против самого движения»,— заявил он45. Одному
из чиновников министерства внутренних дел Пруссии Грёнер даже сказал о Гитлере:
«Он безусловно сдержит свое слово по поводу легальности... Не следует ничего
предпринимать против него. Надо поддерживать его» 4б.
Если сравнивать эти оценки и допущение гитлеровцев в
армию даже с временами суда над Шерингером и его сослуживцами, то перемена
будет весьма определенной. Нет сомнений в том, что симпатии генералов к
гитлеровцам совпадали со взглядами политического руководства. Когда в феврале
приказ Тренера обсуждался в рейхстаге, лидер социал-демок-
--------------
44 «Ursachen und Folgen vom deutschen
Zusammenbruch 1918 und 1945»,
Bd. 7. Berlin, 1962, S. 562.
45 D. Groener-Geyer. General Groener.
Frankfurt a/M., 1955, S.
285—286; «Neue Dokumente zur Geschichte der Reichswehr 1930—1933»,—
«Vierteljahrshefte fur Zeitgescbichte», 1954, H, 4, S. 417,
46 К. Heiden, Hitler, S. 293.
245
ратической партии Брейтшейд бросил военному министру в
лицо: «Я поражен терпимостью, которую Вы проявляете по отношению к
национал-социалистам»л7. Сдвигами в позиции генералов
объясняется и следующее высказывание Гинденбурга, также относящееся к февралю
1932 г: '«Становится все более ясно, что народ хочет Гитлера. Пусть
тогда молодой человек покажет, на что он способен»4S.
Однако эта точка зрения еще не возобладала
окончательно и у командования рейхсвера, и у Гинденбурга. В свою очередь Гитлер
на предложения Брюнинга в конечном счете ответил отказом. Отрицательную позицию
к предложениям Брюнинга заняла также Национальная партия. В планы фашистов не
входила поддержка Гинденбурга без немедленного предоставления им власти.
Наоборот, их вполне устраивала избирательная кампания, которая проходила бы в
условиях нарастающего экономического кризиса. Именно на это и пошли крупные
суммы, полученные в Дюссельдорфе, а затем и в других городах Рура, которые
посетил в январе
8 февраля Геббельс записал в своем дневнике:
«Финансовое положение улучшается с каждым днем. Финансирование избирательной
кампании почти обеспечено»49. Оно было обеспечено, как никогда
ранее; в ходе кампании гитлеровцы побили все рекорды и по количеству митингов и
собраний, и по числу оплачиваемых докладчиков. Что же касается Гитлера, то к
его услугам даже имелся самолет — тогда еще новинка в политической практике,
при помощи которого фашистский главарь получил возможность выступать в течение
одного дня на митингах в разных городах.
Выборы президента были назначены на 13 марта
-------------------------------------
47 «Verhandlungen des
Reichstags», Bd. 446, S. 2277.
48 W. Zechlin. Pressechef bei
Ebert, Hindenburg und Kopf. Hannover, 1956, S 123
49 J. Gobbels. Vom
Kaiserhof zur Reichskanzlei. Berlin, 1934, S. 42.
50 V. R. Berghahn. Die Harzburger
Front und die Kandidatur Hindenburgs fur die Prasidentschaftswahlen 1932.— «Vierteljahrshefte fur Zeitgeschichte», 1965, N 1.
246
Для всех противников реакции жизненно важно было
сплотиться вокруг какого-либо кандидата, который представлял бы миллионы
антифашистов и мог побить Гитлера. Если бы удалось объединить вокруг одного
лица голоса всех избирателей — коммунистов и социал-демократов, а также
примыкающих к ним слоев населения, то именно этот кандидат и вышел бы
победителем избирательной борьбы. Но при существовавших между обеими рабочими
партиями отношениях это было совершенно нереально.
Придерживаясь близорукой политики «меньшего зла»,
предполагавшей борьбу против гитлеризма посредством поддержки группировок
реакционной буржуазии, стоявших у власти, социал-демократические лидеры
отказались от выдвижения собственного кандидата. Ослепленные антикоммунизмом,
они с самого же начала решили поддержать реакционера Гинденбурга 51.
Их избранником стал тот самый кайзеровский фельдмаршал-милитарист, против
которого они с таким рвением агитировали семь лет назад, характеризуя его как
неисправимого приверженца монархии и сторонника абсолютистского образа
правления. Руководители социал-демократии прекрасно знали, что Гинденбург был
избран в
Это писалось в то время, когда президент и его
окружение уже разрабатывали дальнейшие шаги по пути фашизации политического
строя и подготовки реванша. Во время переговоров с представителями крайне
правых в первой половине февраля
----------------
51 Как пишет Брюнинг, им даже не разрешили
присоединиться к воззванию о выдвижении Гинденбурга, ибо последний не хотел
этого. Брюнинг взял на себя уговорить социал-демократических лидеров
«проглотить» и такое Унижение и достиг цели (в беседе с О. Брауном) (H.
Вruning. Memoiren 1918-1934, S. 510, 514).
52 «Vorwarts», 27.II 1932.
53 V.R. Berghahn. Die Harzburger Front... S. 74.
54 «Verhandlungen des Reichstags», Bd. 446,
S. 2280.
247
Лидеры СДПГ воспользовались тем, что Гинденбург
выступал па выборах конкурентом Гитлера, для перекрашивания старого реакционера
в «прогрессивного деятеля». Так, орган «молодых» социал-демократов уверял: «Что
бы ни случилось, Гинденбург будет соблюдать конституцию, ее дух и букву» 55.
А председатель фракции СДПГ в прусском ландтаге Гейльман писал: «Мы можем
обвинять господ, окружающих Гинденбурга, в чем угодно, но человек, которого мы
знаем уже семь лет в качестве президента, никогда (!) не будет президентом...
при национал-социалистском правительстве» 56. Меньше чем через год Гинденбург призвал к власти Гитлера, а
спустя некоторое время после этого Гейльман оказался в -одном из концлагерей
«Третьей империи», где и погиб.
Но и весной
Имелось сколько угодно свидетельств того, что кандидат
Брюнинга и социал-демократических лидеров всей душой со своими единомышленниками
из лагеря крайне правых, объединиться с которыми ему мешали противоречия
монополистических групп. Гинденбург совершенно не скрывал своего недовольства
тем, что он вынужден выступать в качестве кандидата «умеренных», а особенно
социал-демократов. Уже в середине февраля поверенный в делах США в Берлине
сообщал в госдепартамент о разочаровании Гинденбурга тем, что он не сумел
добиться поддержки «Стального шлема» (почетным членом которого он состоял) 58.
В своей переписке Гинденбург высказывался еще определеннее. «Со всей
категоричностью,— писал
-------------------------
55 «Neue Blatter fur den Sozialismus»,
1932, N 3, S. 119.
56 «Das freie Wort», 1932, N 6, S. 3. Несравненно вернее оценивал «возможности» Гинденбурга
известный французский журналист Пертинакс, который еще в октябре
57 «Berliner Tageblatt», 31.V 1933.
58 См. Е. Beck. The Death of the Prussian Republic. Tallahassee, 1959, p. 230.
248
oн, например, одному из крупнейших помещиков Восточной
Пруссии, фон Бергу,— буду я противиться тому, чтобы меня, вопреки правде,
изображали кандидатом левых или черно-красной коалиции»59. А после
выборов Гинденбург горько жаловался, что за него голосовали «соци» и католики,,
почти одинаково неприятные ему, а не «его люди»60.
Таким образом, руководство СДПГ, оглушая рабочих
лозунгом «Выбирайте Гинденбурга — бейте Гитлера!», по существу выдавало массы
Гитлеру, лишь ожидавшему своего часа. Нельзя без недоумения читать призывы,
заполнявшие в те месяцы страницы социал-демократических изданий. «Заря свободы
разгорается,— говорилось в одном журнале.— В тяжелых муках из капитализма рождается
социализм... В этом смысл президентских выборов... Кто осознал это,
будет голосовать за Гинденбурга»61. По существу правые деятели,
стоявшие во главе социал-демократии,— Вельс, Штампфер, Фогель и др.— вернулись
к обанкротившейся политике периода первой мировой войны, когда они славословили
кайзеровского фельдмаршала Гинденбурга,
выдавая военную каторгу за прообраз социализма.
В первом туре выборов фигурировало три буржуазных
кандидата— Гитлер, Гинденбург и Дюстерберг.—а также представитель трудового
люда Германии, Тельман. Избирательная кампания проходила необычайно остро,
нередко выливаясь в кровавые столкновения62. Фашистские молодчики
форменным образом терроризировали своих политических противников, включая
сторонников буржуазных партий, выступавших в поддержку Гинденбурга. Последний
имел возможность познать на себе всю разнузданность гитлеровских нападок, не
останавливавшихся ни перед чем.
Фашистские приемы обработки и оболванивания масс стали
к этому времени еще более изощренными и гибкими. Гитлеровцы предпринимали
колоссальные усилия для завоевания преобладающего влияния на
крестьянство, не минуя ни одной деревни, ни одного хутора. Характерны в этом
смысле крупные успехи гитлеровской партии в Шлезвиг-Гольштейне, где еще в
недавнем прошлом были весьма сильны позиции революционных элементов в
крестьянском движении; определенное значение имел тот факт, что работой в этой
сугубо сельскохозяйственной провинции руководили исключительно выходцы из
крестьян, хорошо знакомые с положением63. Больших ус-
------------------------------
59 «Hindenburg zwischen den Fronten
1932».—«Vierteljahrrshefte fur Zeitgeschichte», 1960, N 1, S. 80—81.
60 W.Zechlin. Pressechef bei Ebert,
Hindenburg und Kopf, S. 119.
61 «Das freie Wort», 1932, N 11, S. 5.
62 G.Gereke.
Ich war koniglich-preussischer Landrat. Berlin, 1971, S. 179—180.
63 R.Heberle. From Democracy to
Nazism. Baton Rouge, 1945, p. 76.
249
пехов — по сравнению с тем, чего они достигли в
сентябре
Фашистская партия приближалась к своему политическому
зениту. Она все решительнее выдвигала претензии на государственную власть. Как
мы видели, влиятельные круги промышленно-банковского мира, высшего
чиновничества и генералитета выступали за привлечение нацистов в имперское
правительство, по лишь немногие высказывались за предоставление им всей полноты
власти. Такая точка зрения (ее, несмотря на симпатии к гитлеровцам,
придерживался и Гинденбург, считавший, что для подобного эксперимента времена
слишком серьезны 64) учитывала влияние сил, являвшихся непримиримыми
противниками фашизма; они должны были оказать ожесточенное сопротивление его
приходу к власти. Оставались и опасения перед имевшимися в нацистской партии
радикальными элементами, настроенными антикапиталистически. Эти элементы были в
значительной степени сосредоточены в штурмовых отрядах, где время от времени
происходили «мятежи» недовольных, в частности, против все более явного смыкания
верхушки гитлеровской партии с крупным капиталом.
Но противоречия между правящими кругами и гитлеровской
партией не меняли политики поощрения фашистов государством и буржуазными
партиями. Весьма характерный в этом смысле эпизод связан с президентскими
выборами. Дело в том, что Гитлер формально не являлся гражданином Германии и не
мог, следовательно, выставить свою кандидатуру на пост президента. Он получил
германское гражданство лишь после того, как брауншвейгское правительство в
феврале
Ныне некоторые западногерманские историки изображают
дело так, будто получение гражданства не имело для Гитлера никакого значения. С
этим нельзя согласиться: хотя вопрос о гражданстве, конечно, не был решающим,
устранение формального, но вполне реального препятствия, мешавшего гитле-
--------------------------------------
64 «Vierteljahrshefte fur Zeitgeschichte», 1960, N 1, S. 78.
65 Показательно, что в обширной публикации,
посвященной этому эпизоду («Vierteljahrshefte fur Zeitgeschichte», I960, Н. 4),
о позиции правительств? Брюнинга не говорится ни слова. Содержание документов
отражает главным образом тот факт, что фашистский главарь «не отправлял»
должности—явной синекуры, как было с самого начала ясно для всех,— на которую
он был назначен. Из мемуаров Брюнинга стало известно, что он дал указание не
препятствовать получению Гитлером гражданства якобы потому, что его поражение
на выборах было неминуемо, а это должно было сделать его более склонным к
соглашению (Н. Bruning. Memoiren 1918— 1934, S. 521).
250
ровцам развернуть оголтелую демагогическую кампанию в
пользу «фюрера», являлось совершенно определенным пособничеством Гитлеру. Это
было вполне ясно самим пособникам. Один из лидеров Народной партии Брауншвейга
писал, например: «Господа нацисты должны очень хорошо уяснить себе, что предоставлением
немецкого гражданства Гитлеру они обязаны нам» 66.
Английский буржуазный корреспондент С. Делмер, в те
годы весьма близкий к гитлеровцам, сопровождал Гитлера в пропагандистской
поездке в восточные районы тогдашней Германии. Из его воспоминаний мы узнаем,
какие формы уже весной
Социал-демократия выступала в качестве принципиальной
противницы фашизма. Она широко рекламировала созданный ею в начале
Массы социал-демократических рабочих, объединенных в
«Железном фронте», искрение желали одолеть гитлеровскую
------------------------------------
66 E.A. Roloff. Burgertum
und Nationalsozialismus.
67 S. Delmer. Trail Sinister. An
Autobiography, vol. 1. London, 1961, p. 150.
69
«Vorwarts», 28.1 1932; «Abend», l.II 1932.
251
угрозу. Но политика «меньшего зла» сводила словесный
антифашизм СДПГ па нет. В соответствии с этой политикой руководство партии
стремилось избежать массовых выступлений, а больше всего заботилось о
предотвращении единого фронта с коммунистами. Одна из крупнейших газет СДПГ,
орган ее гамбургской организации, писала в те дни: «В этой избирательной
кампании речь может идти лишь об одном — о беспощадной борьбе против
коммунистов и национал-социалистов!»70 Формула весьма
недвусмысленная. Трудно было придумать что-либо более чудовищное для углубления
раскола рабочего класса, чем голосование социал-демократов за Гинденбурга. Это
не могло не вырыть еще большую пропасть между двумя партиями.
Единственным последовательным борцом против фашистской
угрозы была коммунистическая партия, видевшая свою главную задачу в создании
монолитного единства пролетариата. Коммунистическая партия вела неутомимую
работу в массах, разъясняя им существо политических событий, беспощадно
разоблачая планы буржуазии, призывая трудящихся к массовой внепарламентской
борьбе против реакции и фашизма. Коммунисты предупреждали рабочих, шедших за
социал-демократами: «Кто выбирает Гинденбурга, выбирает Гитлера!» В
пропагандистских материалах КПГ широко использовались высказывания
социал-демократических лидеров о Гинденбурге, относившиеся к
Коммунистам приходилось преодолевать неимоверные
трудности, вызывающиеся расколом рабочих рядов, репрессиями, слабостью партии
на предприятиях — результатом массовой безработицы и стремления капиталистов в
первую очередь избавиться от «смутьянов».
Первый тур выборов не принес абсолютного большинства
ни одному из кандидатов. Гинденбург, за которого голосовали миллионы
социал-демократов, был весьма близок к избранию: он получил 18,6 млн. голосов,
но это составило 49,6, а не 50 с лишним процентов, как того требовала
конституция. В связи с этим возникла необходимость в проведении второго тура,
где достаточно было простого большинства; он был назначен на 10 апреля. Выборы
обнаружили новое огромное нарастание влияния гитлеровцев, собравших свыше 11
млн. голосов™ почти вдвое больше, чем в сентябре
------------------
70 ЦПА ИМЛ, ф. 215, оп. 1, ед. хр. 210.
71 Фонды ГМР,
30211/190 Б445—11П6.
252
новой массовой базы, и это, естественно, серьезно
усилило опасность установления фашистской диктатуры.
Ввиду того, что у нацистов после первого тура не было
реальных шансов получить власть посредством захвата поста президента
республики, они всерьез подумывали о путче, который было намечено осуществить
сразу же после объявления итогов второго тура выборов. Прусское правительство
опубликовало обширную документацию, не оставлявшую никакого сомнения в
заговорщических замыслах гитлеровской клики, во всяком случае определенной
группировки в ее составе, отражавшей недовольство тем, что приход к власти
столь сильно затянулся 72. В различных местах страны были обнаружены
склады или транспорты оружия, принадлежавшие гитлеровским штурмовым отрядам,—
не только винтовки, карабины, пистолеты и боеприпасы к ним, но и тяжелые
пулеметы. В Берлине в руки властей попал мобилизационный план нацистов;
фотокопия этого документа была опубликована в газетах 73.
Оценивая появившиеся в печати сообщения о замыслах
гитлеровской клики, левобуржуазный историк Э. Эйк накануне второго тура
президентских выборов писал: «У непредвзятого читателя этих документов должно
создаться впечатление, что они проистекают из единого плана, направленного к
вполне определенной цели» 74. Это вызвало вскоре ответные меры
правящих кругов, не заинтересованных, по соображениям, изложенным выше, в
передаче всей власти фашистам.
Кандидат Национальной партии и «Стального шлема»
Дюстерберг собрал всего 2,5 млн. голосов. Во втором туре он уже не фигурировал,
а его сторонники в своей массе поддержали Гитлера. Накануне 10 апреля было опубликовано
обращение, подписанное многими генералами, адмиралами, крупными дельцами,
призывавшими голосовать за Гитлера. С таким же призывом обратился к народу и
бывший кронпринц; правда он сделал это лишь только после провала плана
выдвижения его собственной кандидатуры75. В пользу избрания Гитлера
высказался
----------
72 Об этом же
говорилось б циркуляре
руководства «Рейхсбаннера», находящемся в фондах министерства внутренних дел
(IML, Archiv, Reichsministerium des Innern, N 10/237, Bl. 130—131).
73 ЦПА ИМЛ,
ф. 215, on. 1, ед. хр. 194.
74 «Vossische
Zeitung», 7.IV 1932.
75 P. Herre, Kronprinz Wilhelm. Seine Rolle in
der deutschen Politik. Munchen, 1954, S. 208. Кронпринц был далеко не единственным
отпрыском гогенцоллернского рода, чувствовавшим симпатию к фашизму. Два младших
его брата уже несколько лет щеголяли в форме штурмовиков, один из них,
Август-Вильгельм, часто появлялся в окружении «фюрера», которому это не только
льстило, но и помогало обеспечивать поддержку консервативных кругов. По
сообщению Августа-Вильгельма, его отец, бывший кайзер Вильгельм II, после одной из обычных в практике нацистов
потасовок, в
253
бывший командующий рейхсвером генерал Сект, все еще
пользовавшийся большим влиянием среди офицерства 76. Эти факты
весьма симптоматичны, и, хотя они не могли повлиять на результат выборов, они
свидетельствовали о переходе на сторону нацистов все новых прослоек
господствующего класса 77.
Почти 5 млн. голосов получил на выборах представитель
трудовых низов Э. Тельман. Отдать голоса за Тельмана призвали своих сторонников
и лидеры левых социал-демократов, вышедшие в
В день выборов, 10 апреля, рупор тяжелой
промышленности газета «Дейче бергверксцейтунг» выступила с передовой статьей, в
которой требовала решительного отказа от «сверхдемократии» и «сверхпарламентаризма»,
чем, по мнению ее издателей, характеризовался политический строй Веймарской
республики. «Разве не пришло время,— вопрошала газета воротил тяжелой
индустрии,— коренным образом изменить конституцию, используя для этого
легальные средства?» Данный лозунг как бы символизировал главную цель
господствующих классов, и он объединял обоих кандидатов буржуазного лагеря,
хотя между ними и шла борьба. *Эта избирательная борьба,—писал еженедельник
«Вельтбюне», издаваемый К. Осецким,— не была борьбой между демократией и
диктатурой. Это скорее спор двух конкурирующих фирм, борющихся за долю перед
тем, как объединиться» 78. He случайно «Дейче альгемейне цейтунг»
писала еще 15 марта, после первого тура, что Гинденбург в случае переизбрания
«не будет желать ничего более, чем в нужное время осуществить эту великую
задачу»,- т. е. включить гитлеровцев в имперское правительство.
Парадоксальность положения заключалась в том, что
Гинденбург — во всем главном единомышленник Гитлера — взял над ним верх (чтобы
осуществить свой вариант ликвидации буржуазной демократии в Германии) голосами
рядовых социал-демократов, кровно заинтересованных в сохранении демократических
свобод. Фельдмаршал-президент получил 19,3 млн. голо-
-------------------
ходе которой пострадал и принц, писал ему: «Ты можешь
гордиться тем, что стал мучеником этого великого движения» (ЦПА ИМЛ, ф. 215,
оп. 1, ед. хр. 97).
76 F. von Rabenau. Seeckt. Aus seinem
Leben. Leipzig, 1940, S. 665.
77 Согласно
данным Брюнинга, в ходе избирательной кампании Стальной трест предоставил
Гитлеру 500 тыс. марок, Гиндепбургу только 5 тыс. (H. Bruning. Memoiren
1918—1934, S. 531).
78 «Weltbuhne», 1932,
N 15, S. 539.
254
сов, Гитлер — 13,4 млн. Число же
голосов, поданных за Тельмана, по сравнению с первым туром уменьшилось — он собрал
всего 3,7 млн. голосов, что послужило отправной точкой для серьезного анализа
компартией допущенных просчетов и принятия решений, имевших целью поднять
борьбу против наступления реакции на значительно более высокий уровень 79.
Общий итог выборов был весьма точно подведен в уже цитированной статье журнала
«Вельтбюне»: «Победил Гинденбург. Но кто собственно потерпел поражение?
Определенно не фашизм». Ибо Гинденбург, получив новый, мандат, укрепился в
решимости сделать новый рывок к реакционной диктатуре.
Маневры правящих кругов и отставка Брюнинга
Резкое усиление гитлеровцев, с полной очевидностью
выявившееся уже в результате первого тура президентских выборов, побудило
правящие круги ускорить осуществление мер, которые, по их мнению, должны были
предшествовать превращению фашистской партии в правительственную. Грёнер и
поддерживавший его Брюнинг видели непременное условие этого в «очищении»
нацистской партии от радикальных, антикапиталистических элементов, которые
внушали крупным собственникам тревогу. Путь к данной цели они видели в роспуске
штурмовых и охранных отрядов, являвшихся средоточием тех, кто настаивал на
захвате власти силой, на осуществлении нацистской программы
Сохранились документы Тренера, в которых черным по
белому написано, что цель этой меры—-сделать нацистскую партию пригодной для
участия в правительстве (разумеется, на тех условиях, которые были бы ей
предложены). Грёнер с большим уважением отзывался о «ценном человеческом
материале», якобы имевшемся среди коричневорубашечников; предполагалось в
дальнейшем включить этот «материал» в милицию, состоящую из лиц различных
политических убеждений и находящуюся под эгидой государства 80. Вот
где была еще одна, и немаловажная, причина, побудившая правительство Брюнинга,
а точнее — командование рейхсвера, которому принадлежал весь план, при-
---------------------
79 Фонды ГМР, 8259/2 Д445—НА, стр. 2—7.
80 «Deutsche
Rundschau», 1950, N 12, S. 1019; Th. Vogelsang. Reichswehr, Staat und
NSDAP. Beitrage zur deutschen Geschichte
1930—1932. Stuttgart, 1962, S. 446.
255
пять решение о ликвидации штурмовых отрядов81. Мы уже говорили об опасениях генералов, что армия
коричневорубашечников станет соперником рейхсвера и, будучи многочисленнее
последнего, отодвинет его на второй план. Устранить эту опасность— такова была
одна из главных целей роспуска «частной армии» гитлеровской партии.
Момент был весьма подходящим. Террор фашистских банд
вызывал растущее возмущение различных слоев населения, приносил все большее
число жертв. В январе 200 гитлеровцев осуществили разбойничье нападение на
рабочую колонию «Фельзенек», убив одного пролетария-коммуниста и ранив многих
других. В Грайфсвальде 100 нацистов совершили налет на редакцию
социал-демократической газеты. В Бреславле (ныне Вроцлав) рабочий Гюнтер был
убит в своем же доме гитлеровцем, раздававшим фашистские листовки. В Банкау
(Силезия) нацисты убили батрака Басси на глазах его жены 82.
Под давлением общественности правительства крупнейших
провинций выступили с разоблачениями коричневорубашечников, опубликовав
материалы, конфискованные во время обысков в учреждениях нацистской партии.
Представители южно-германских земель — Баварии, Бадена, Вюртемберга — на
совещании в министерстве внутренних дел в начале апреля настойчиво требовали от
Тренера запрета штурмовых отрядов, превратившихся в государство в государстве83.
Это вполне совпадало с планами имперского правительства. Почти до самого
утверждения соответствующего декрета замысел Тренера активно поддерживал
генерал Шлейхер; лишь в последние дни, когда все было уже решено, он стал
выражать сомнения. Шлейхер приступил тогда к реализации плана свержения Тренера
и замены правительства Брюнинга другим, которое привлекло бы нацистов к участию
в управлении страной.
Декрет о роспуске всех военизированных формирований
гитлеровской партии был опубликован сразу же после завершения президентских
выборов, 13 апреля. Для нацистских главарей он отнюдь не являлся
неожиданностью. Уже упоминавшийся английский корреспондент С. Делмер
рассказывает в своих воспоминаниях, что 12 апреля он получил от статс-секретаря
прусского министра-президента Вайзмапа поручение сообщить штабу штурмовиков о
предстоящем запрете с тем, чтобы выяснить, окажут ли они сопротивление. Когда
Делмер явился к началь-
------------------
81 Имелась
еще и внешнеполитическая сторона: стремление избежать во время переговоров с
западными державами о перевооружении обвинений в существовании огромной
«частной армии» (Н. Bruning. Memoiren 1918—1934, S. 545).
83 «Rote Fahne», 19.1
1932; W. Hoegner. Die verratene Republik. Munchen, 1958 S. 297
83 Th. Vogelsang. Reichswehr,
Staat und NSDAP, S. 446—448.
25S
нику штурмовых отрядов Рему, то удостоверился не
только в том, что Рему все известно, но и в том, что тот имеет текст будущего
декрета. Это позволило штурмовикам соответствующим образом подготовиться к
запрету. «Когда они заявятся к нам,—сказал Делмеру Рем,—то уже мало что найдут»84.
Сообщение Делмера подтверждается архивными
документами. Вот что говорилось, например, в полицейском донесении из Дрездена
от 23 апреля: «Ввиду того, что организации национал-социалистской партии явно
были обо всем предупреждены, предметы, которые свидетельствуют о
военизированном характере организаций, могут быть конфискованы лишь в небольшом
количестве» 85. В полицейском донесении из Штутгарта указывалось,
что роспуск с самого начала предусматривался как простая формальность, ибо во
всей прессе задолго сообщалось о готовящемся акте86. Из Нюрнберга
полиция сообщала в министерство внутренних дел следующее: «Почти по всей
Северной Баварии национал-социалисты узнали о предстоящем роспуске на 24 часа
раньше, чем власти» 87.
Совершенно несостоятельна версия буржуазной
историографии, будто Брюнинг, Тренер и их окружение искренне стремились нанести
фашизму удар. Буржуазные историки вновь и вновь пытаются возродить эту версию,
видя в ней возможность оспорить важнейший тезис марксистской историографии об
исторической ответственности германского монополистического капитала и его
политических партий за установление кровавой фашистской диктатуры.
Несостоятельность этой версии не была секретом уже для демократически мыслящих
современников. «Брюнинг,— писал, например, Осецкий,— стремится сломить лишь
высокомерие фашизма, его претензии на единоличное господство, а не самый
фашизм» 88.
Однако, хотя нацисты и были предупреждены о роспуске
штурмовых отрядов и сумели принять некоторые меры 89, все же этот
роспуск никак, не согласовывался с их планами. Вооруженные банды были в руках
Гитлера и его клики важным «аргументом» в борьбе за полновластие, орудием
террора, который играл в арсенале фашистов колоссальную роль. И лишаться такого
инструмента — даже частично— им не хотелось; это почти неминуемо повело бы к
второстепенному положению в блоке с
------------------------------
84 S. Delmer. Trail Sinister, p.
161—162.
85 DZAP,
Reichsministerium des Innern, N 26032, Bl. 150.
86 Ibid., Bl.205.
87 Ibid., Bl. 210.
88 C. von Ossietzky. Schriften, Bd. 2.
Berlin — Weimar, 1966, S. 18.
89 На
заседании правительства 3 мая Грёнер отрицал, что со штурмовиками обошлись
плохо. «Мероприятия, связанные с роспуском Союза красных Фронтовиков,—напомнил
он,— были намного суровее» (DZAP, Reichskanzlei, Kabinettssitzungen, N 753, Bl.
789871).
257
другими буржуазными партиями. Гитлеровцы, изображавшие
себя «мессиями», владеющими секретом спасения капиталистического строя в
Германии, упорно не желали соглашаться с этим. И они сразу же развернули
крикливую демагогическую кампанию, выступая в роли «обиженных» и используя
поддержку влиятельных представителей господствующих классов. 30 апреля в
«Берлинер берзенцейтунг» было опубликовано заявление 215 фабрикантов,
помещиков, генералов, адмиралов, резко осуждавшее запрет штурмовых отрядов и
призывавшее правые партии «немедленно создать новый Гарцбургскии фронт для
спасения родины». Еще более важным для гитлеровцев оказалось, что решительные
противники роспуска обнаружились и среди генералитета.
С возражениями выступил не только Шлейхер,
действовавший через своего бывшего однополчанина, сына президента Гинденбурга,
а также поставивший в известность о своей позиции начальников штабов военных
округов90. К президенту обратились генералы, с мнением которых он
привык считаться больше всего. Среди них, помимо отставных фон дер Гольца,
Штюльпнагеля, Леветцова, было и несколько действующих генералов, в том числе
два командующих военными округами: померанским—фон Бок ('будущий гитлеровский
фельдмаршал) и восточно-прусским
— Бломберг (будущий военный министр Гитлера) 91. Не прошла, видимо,
мимо внимания Гинденбурга и точка зрения бывшего кронпринца, высказанная им в
письме к Грёнеру. Здесь было выражено негодование по поводу того, что
правительство пренебрегает «изумительным человеческим материалом», из которого
состоят штурмовые отряды и который «воспитывают там в достойном духе»; между
тем он должен явиться резервуаром рейхсвера для отражения «постоянных
опасностей, грозящих с
Востока» 92. Гинденбург реагировал быстро. Уже 16 апреля он
обратился к Тренеру с письмом (оно одновременно было опубликовано в газетах), в
котором ставил вопрос о необходимости запрета, наряду со штурмовыми отрядами,
других военизированных организаций, в первую очередь «Рейхсбаннера». Открытый
характер выступления не оставлял сомнений в том, что атака крайней реакции
развивается.
Вскоре враги республики добились нового успеха. 24
апреля миллионы немцев вновь пришли к избирательным урнам; в этот день
состоялись выборы в некоторые провинциальные парламенты—ландтаги. Наибольшее
значение имели выборы в Пруссии, которая по территории занимала почти 2/з
страны, вклю-
---------------------------
90 E. Raeder. Mein Leben, Bd. 1. Tubingen,
1956, S. 280.
91 W. Gorlitz, И. Quint. Adolf Hitler. Eine Biographie. Stuttgart, 1952, S. 340; W. Gorlitz. Hindenburg. Ein Lebensbild. Bonn,
1953, S. 363-
92 P. Herre. Kronprinz Wilhelm,
3. 200.
258
чая ее столицу — Берлин. Нацисты и их
единомышленники Добивались устранения коалиционного правительства О. Брауна в составе представителей
социал-демократии, Центра и Государственной партии. Реакционеры преследовали
при этом вполне определенные цели: захватить в свои руки полицейские силы
Пруссии, и в частности Берлина, находившиеся в ведении провинциального (а не
общегерманского) правительства. Если бы надобный замысел увенчался успехом, это
в корне изменило бы политическую обстановку в стране, резко усилив позиции
фашистов в борьбе за власть.
Предыдущие выборы (в
А пока у власти в Пруссии в качестве «ведущего дела»
кабинета оставалось прежнее правительство. Незадолго до своего роспуска старый
ландтаг по предложению деятеля левого крыла Государственной партии О. Нушке
одобрил законопроект, согласно которому глава правительства считался избранным,
лишь получив голоса 2/з депутатов. Это нововведение имело целью не
допустить избрания гитлеровца на столь важный пост. Коммунисты, несмотря на
вражду к правительству Брауна — Зеверинга, вызванную непрерывными
преследованиями КПГ, запретами и расправами с организуемыми ею митингами и
демонстрациями и т. п., не препятствовали принятию законопроекта. Стремясь
обойти его, силы крайней реакции разрабатывали планы насильственного захвата
власти в Пруссии под видом восстановления непосредственной связи ее управления
с управлением империи.
Кризис правительства Брюнинга был вызван
перегруппировкой господствующих классов, усилением того их крыла, которое
требовало коренного изменения методов внутренней политики.
-----------------------
93 И. Bruning. Memoiren 19I8—1934, S. 568,
570.
259
Экономическая разруха все еще усиливалась, и
монополистический капитал продолжал добиваться дальнейшего снижения жизненного
уровня трудящихся. Правительство Брюнинга, зависевшее от голосов
социал-демократов, не было более пригодно для этого94. Новое
наступление монополий неминуемо должно было повлечь за собой подъем революционной
борьбы народных масс; уже весна
Важным симптомом было укрепление ростков единого
фронта, складывавшегося в горниле совместной борьбы против фашистских убийц,
против антинародной политики правящих кругов 95. Благодаря усилиям
коммунистов удалось добиться сотрудничества организаций КПГ и СДПГ в ряде
городов, в том числе в таком крупном, как Эссен, а также в Тельтове,
Ораниенбурге, Герцфельде, Вальтерсгаузене и др. Особенно устойчивым и
плодотворным оказалось единство коммунистов и социал-демократов в Бернау, близ
Берлина96. «Неспособность» правительства справиться с растущим
сопротивлением трудящихся ускорила его падение; по мысли германских
монополистов, оно должно было уступить место более сильной власти.
Осуществляя этот замысел, дворцовая камарилья
действовала в самых разных направлениях. Прежде всего были приняты меры, чтобы
изнутри вызвать распад правительства. С этой целью министр хозяйства Вармбольд,
«человек» концерна «ИГ Фарбениндустри», вскоре после выборов подал в отставку {позднее
он вошел в состав нового кабинета). Пресса, поддерживавшая правительство,
пыталась, как говорят, сделать хорошую мину при плохой игре. Так, орган партии
Центра «Германиа» писал 4 мая: «Совершенно исключена возможность того, чтобы
--------------------------------------
94 «XII
пленум Исполкома Коминтерна», т. I. M., 1933, стр. 114.
95 См. «Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung», Bh. 4. Berlin,
1966, S. 331—332.
96 W. Vlbricht. Zur Geschichte der
deutschen Arbeiterbewegung, Bd. I. Berlin, 1953, S. 584—585.
260
этот частичный кризис, вызванный чисто ведомственными
разногласиями, мог иметь далеко идущие политические последствия» 97.
Более близки к истине были правобуржуазные газеты,
придерживавшиеся противоположного мнения. Так, «Кельнише цейтунг» 3 мая писала;
«Химическая промышленность считается в Германии умеренной, и вступление
Вармбольда в правительство являлось подтверждением того, что она готова
поддерживать кабинет Брюнинга. Теперь напрашивается само собой противоположное
заключение — даже и эта умеренная промышленная группа отказывает Брюнингу в
поддержке».
Затем правительство лишилось военного министра
Тренера— после разнузданной атаки со стороны гитлеровцев, которой Тренер
подвергся в начале мая в рейхстаге98, Шлейхер заявил, что тог больше
не пользуется доверием генералитета. Грёнер немедленно подал в отставку, что
сделало положение правительства угрожающим. Отношения между Гинденбургом и
Брюнингом становились все более натянутыми; хотя рейсхканц-лер был полон
подобострастия к своему бывшему фельдмаршалу 99 и во многом
обеспечил его переизбрание, Гинденбург не мог простить Брюнингу, что тот не
сумел добиться объединения правых вокруг его кандидатуры. Но этим дело не
ограничилось. Сторонники смены правительства решили, что рассчитывать на полный
успех, можно, лишь воздействуя на наиболее чувствительное для Гинденбурга место
— внушив ему мысль об огромной опасности, якобы угрожающей крупному
землевладению со стороны правительства Брюнинга.
Здесь надо сказать о положении сельского хозяйства в
пограничных с Польшей районах тогдашней Германии, в частности в Восточной
Пруссии, и о так называемой «Восточной помощи». Тяжелый аграрный кризис,
сопутствовавший промышленному, особенно сильно поразил эти области, где после
войны были нарушены прежние сбытовые и иные связи, транспорт
----------
97 Аналогичную точку зрения высказал Р.
Гильфердинг, выступая 4 мая
98 Сразу
же после речи, в которой Грёнер обосновал запрет штурмовых отрядов, Г. Штрасеер
внес от имени нацистской фракции предложение прекратить дебаты, чтобы имперское
правительство «установило, может ли Грёнер и в дальнейшем обеспечивать
общественную безопасность и руководить армией» («Verhandlungen des Reichstags»,
Bd. 446, S. 2250).
99 «Я уже
знал теперь,— пишет Брюнинг,—что политика, основанная на такой личности, как
Гинденбург, должна потерпеть крушение». Но это не мешало ему же
утверждать, будто «лишь одна вещь могла принести спасение: все еще
сохранявшийся вокруг президента нимб» (Я. Bruning. Мemoiren 1918—1934,
S. 552, 615).
261
и т. п. Причины упадка сельского хозяйства в Восточной Пруссии, Силезии и
др. лежали, однако, глубже. То были традиционные районы господства юнкерства,
страшного малоземелья крестьянских масс, и положение последних мало изменилось
по сравнению с тем, что было 100 и более лет назад, Помещичьи хозяйства велись
по старинке, без достаточной механизации, при малопроизводительном труде, и не
удивительно, что они нередко приходили в упадок. Но здесь на помощь
«бедствовавшим» юнкерам спешило государство.
Так, в 1928—1930 гг. в порядке «Восточной помощи» было
ассигновано 39 млн. марок, 96% этой суммы было передано крупным хозяйствам. В
течение двух последующих лет юнкеры и кулаки получили еще большие
средства—-свыше 800 млн. марок 10°. Многим из них достались
баснословные суммы, например графу Финкенштейну было выплачено 1167 тыс. марок
«помощи», фон Вилькенсу-Добрину 370 тыс., фон Квасту — около 290 тыс.,
президенту Сельскохозяйственного совета Брандесу — 360 тыс. марок и т. д. 101
Нередко эти средства тратились на различные прихоти
благородных помещиков — поездки на Ривьеру, земельные спекуляции, как было, в
частности, с близким другом Гинденбурга помещиком-профашистом
Ольденбургом-Янушау 102. Часть полученных в порядке санирования
средств,— признает в своих мемуарах главный энтузиаст «Восточной помощи»
Брюнинг,—некоторые помещики немедленно использовали для финансирования
радикальной (другими словами национал-социалистской.— Л. Г.) агитации
против правительства или вновь легкомысленно тратили эти деньги». Брюнинг
приводит в качестве примера одного графа из Силезии, чей долг в немалой степени
образовался в результате карточной игры (на что, признает бывший рейхсканцлер,
правительство закрыло глаза). На выданные ему средства он купил автомобиль
«Мерседес», поехал на Лазурный берег и т. и. Этот человек был первым
верхнесилезским помещиком, который после прихода Гитлера к власти вывесил флаг
со свастикой 103.
Злоупотребления при распределении и использовании
ассигнований на «Восточную помощь», положение в сельском хозяй-
-------------
100 He
следует, однако, думать, что юнкеры были удовлетворены этим «золотым дождем»; в
своей ненасытности они жаждали большего я все определеннее высказывались за
замену правительства более правым кабинетом. Даже Брюнинг вскоре после
президентских выборов заявил на заседании правительства: во время предвыборной
поездки по стране «он убедился, что крупные землевладельцы... почти целиком
находятся в руках национал-социалистов» (DZAP, Reichskanzlei,
Kabinettssitzungen, N 753, Bd. 789799).
101 В. Buchta. Die Junker und die Weimarer
Republik. Berlin, 1959, S. 65, 115, 126—128).
102 АВП СССР, ф. 82, п. 60, on.
103 Н.
Bruning. Memoiren 1918—1934,
S. 450.
262
стве пограничных областей па Востоке время от времени
становились предметом дебатов в рейхстаге или прусском ландтаге, что, однако,
не влияло на дело. Правительство Брюнинга ввело в
Шланге-Шенинген, а также министр труда Штегервальд
пришли к выводу, что целесообразно пустить такие имения в принудительную
продажу с тем, чтобы в дальнейшем земля перешла в руки мелких крестьян —
переселенцев из центральных областей страны 104. Продажа коснулась
бы незначительного числа помещичьих хозяйств. В основе плана лежали соображения
военно-политического характера, связанные с реваншистскими замыслами правящих
кругов. Переселенцы были призваны укрепить прослойку подготовленного в военном
отношении населения, своеобразный резерв для малочисленных частей рейхсвера.
Весной
-----------
104 Барон
Браун, ставший после отставки Брюнинга министром продовольствия, в своей книге,
появившейся спустя более двух десятилетий после интересующих нас событий,
повторяет версию о «борьбе профсоюзов против крупной земельной собственности» (М.
von Braun. Von Ostpreussen bis Texas. Stollhamm, 1955, S. 221). Эта версия,
однако, настолько противоречит фактам, что и некоторые западногерманские
историки отвергают ее, Доказывая, что именно Шланге-Шенингену принадлежит
указанная идея (см., например, H. Muth. Zum Sturz Brunings. Der
agrarpolitische Hintergrund. —
«Geschichte in Wissenschaft und Unterricht», 1965, N 12).
105 E. Topf. Wer sturzte
Bruning.— «Monat», 1960, N 146, S. 41—49; «Zum Sturz Burnings»,—
«Vierteljahrshefte fur Zeitgeschichte», 1953, N 3.
106 «Zeitschrift fur
Agrargeschichte und Agrarsoziologie», 1966, N 1, S. 70.
107 Через несколько дней после отставки правительства
Брюнинга упоминавшийся выше Ольденбург-Янушау откровенно похвалялся тем, что
именно а «побудил Гинденбурга убрать Брюнинга из-за намечавшегося закона о
поселениях» (E.Mayer. Skizzen aus
dem Leben der Weimarer Republik.
Berlin, 1962, S.142).
263
заических и материальных интересах. За несколько лет
до этого Гинденбург, в свое время лишившийся родовых имений, вновь стал
владельцем одного из них — восточно-прусского поместья Нейдек, которое было
подарено ему группой доброжелателей ко дню 80-летия. Согласно сообщению
Брюнинга, весной
В конце мая
Пожалуй, наиболее характерным и в то же время наиболее
действенным было письмо, посланное Гинденбургу бароном фон Гайлем, главой
Восточно-прусской сельскохозяйственной палаты и представителем Восточной
Пруссии в рейхсрате (государственном совете). Предупреждая Гинденбурга (как и
авторы других писем) о -«чрезвычайных опасностях», Гайль заявлял, что декрет о
поселениях подействует «на силу сопротивления кругов, являвшихся до сих пор
носителями национальной воли к борьбе против Польши... В такое время следует
избегать всего, что способно ослабить волю к сопротивлению» 111.
Таким образом, и сторонники, и противники
правительственного проекта на первый план выдвигали военно-политические
соображения. Хотя в основе антибрюнинговской кампании и ле-
-------------------------
108 W.Kalischer Hindenburg und das
Reichsprasidentenamt im «nationalen» Umbruch»
(1932—1934). West-Berlin, 1957 (диссерт.), S. 36 (письмо Брюнинга от 18 ноября
109 DZAP, Buro des Reichsprasidenten,
N 47, Bl. 7—8 u.a. Такого рода письма адресовались и генералу Шлейхеру,
из-за кулис направлявшему ход событий (Н. Math. Quellen zu Bruning.—
«Geschichte in Wissenschaft und
Unterricht», 1963, N 4).
110 G. R.
Treviranus. Bruning geht.—«Deutsche Rundschau», 1962, N 9.
111 DZAP, Buro des
Reichsprasidenten, N 214, Bl. 258.
264
жали сугубо материальные интересы, ни те, Ни другие ё то же время ни на минуту не забывали
о замыслах, направленных против Польши.
Письмо Гайля вместе с другими подобными посланиями, в
том числе от некоторых коронованных особ, что должно было оказать на
президента-монархиста особое впечатление, его статс-секретарь Мейсснер 112
привез Гинденбургу в Нейдек, где тот находился с середины мая. Здесь влияние
юнкерской среды было непосредственным. Несмотря на то, что Гинденбург в
записке, составленной вскоре после событий, сообщает лишь о визите одного лица
— помещика Брюннека, можно не сомневаться, что посетителей было значительно
больше.
Хотя замена Брюнинга вызывалась целым комплексом
причин, роль юнкерства в этом событии была весьма велика. Именно поэтому
некоторые буржуазные авторы упорно стремятся доказать, будто восточно-прусские
помещики были чуть ли не агнцами и не имели никакого отношения к политической
борьбе. Особенно активен известный западногерманский реакционер историк В.
Герлиц 113. Специальную работу, посвященную реабилитации юнкеров,
выпустил некий Борке-Штаргорд; он опирается преимущественно на... письма,
полученные в послевоенные годы от лиц, участвовавших в событиях и теперь, через
столько лет, «позабывших» о том, как обстояло дело114. К числу
подобных лиц относится, как ни странно, и сам Брюнинг 115. Но все
подобные ухищрения не выдерживают элементарной проверки перед лицом подлинных
документов, обнажающих скрытые пружины и движущие силы дальнейшей фашизации
Германии. Об этом наглядно свидетельствуют прежде всего труды ученых ГДР (в
частности уже называвшаяся выше книга Б. Бухты), а также работы некоторых
западногерманских историков.
--------------------
112 Если
верить Гайлю, от Мейсснера исходила и идея обращения к Гинденбургу
(«Zeitschrift fur Agrargeschichte und Agrarsoziologie», 1966, N 1, S. 79).
113 W. Gorlitz. Die
Junker. Adel und Bauer im deutschen Osten. Glucksberg, 1957; idem. Hindenburg. Ein
Lebensbild. Bonn, 1963.
114 H. von Borcke-Stargordt. Der ostpreussische Landbau zwischen
Fortschritt. Krise und Politik. Wurzburg,
1957. По существу те же цели преследует использованная выше работа японского
историка Китани, учившегося в ФРГ; вместе с тем в ней содержатся отдельные
ценные факты, опровергающие концепцию автора (Т. Kitani. Brunings
Siedlungspolitik und sein Sturz.-
«Zeitschrift fur Agrargeschichte und Agrarsoziologie», 1966, H. 1).
115 Вот
что пишет, например, автор большого и серьезного исследования на тему о
германской переселенческой политике новейшего времени, опубликованного в
Западной Германии: «Тяжелую вину перед историей несет окружение президента,
оказавшее на него в корыстных целях давление в решающий для судеб нашего народа
момент» (W. F. Boyens. Die Geschichte der landlichen Siedlung, Bd. II. Berlin
—Bonn, 1960, S. 148). Тем не менее
Ральсификаторы истории и после этого продолжают твердить свое (см. например, W.
Gorlitz. Wer sturzte Bruning.— «Monat», 1960, N 12, S. 94).
265
Но далеко не всегда подчеркивается, что дворяне отнюдь
не ограничивали свои цели консервацией обанкротившихся поместий; в
действительности они стремились восстановить утраченные ими в ноябре
Архив Гайля свидетельствует о том, что перед отправкой
своего письма Гинденбургу он побывал в аристократическом «Клубе господ» и
«обратил внимание участников имевшей здесь место дискуссии, среди которых были
некоторые видные банкиры и крупные промышленники, на эту (т. е. касающуюся
поселений.— Л, Г.) часть предполагаемого чрезвычайного декрета» 117.
В числе других Гинденбурга посетили в Нейдеке глава
«Клуба господ» Альвенслебен и Шлейхер 118. Мейсснер сообщает, что
именно здесь Гинденбург окончательно пришел к решению отстранить Брюнинга от
власти 119.
А параллельно Шлейхер вел переговоры о создании нового
правительства; они были окружены глубокой тайной, для сохранения которой
принимались максимальные меры предосторожности. 28 апреля состоялась встреча
Шлейхера с Гитлером, прошедшая, как отметил в своем дневнике Геббельс, успешно.
В следующей встрече, состоявшейся 8 мая, участвовали также Мейсснер и Оскар
Гинденбург. Здесь и было достигнуто предварительное соглашение между сторонами;
речь шла о том, что нацистская партия будет поддерживать полностью независимое
от парламента и политических партий правительство, которое придет на смену
кабинету Брюнинга 120. Нет нужды подробно говорить о том, что
нацисты заключили подобную сделку отнюдь не безвозмездно; наоборот, именно они
и являлись выигравшей стороной. Их условия были таковы: отмена запрета
штурмовых отрядов, роспуск рейхстага. Выполнение этих условий имело
---------------------------------
116 Е. Jonas. Die
Volkskonservativen 1928—1933. Dusseidorf, 1965, S. 120
117 «Zeifschrift fur Agrargeschichte und Agrarsoziologie», 1966, H.
1. S. 79
118 K. Reibnitz. Im Dreieck Hitler — Papen — Schleicher. Dresden,
1933, S, 203; J. Wheeler-Bennett.
Wooden Titan. Hindenburg in
Twenty Years of German History. New York, 1936. p. 389.
119 0. Meissner. Slaatssekretar unter Ebert — Hindenburg — Hitler. Hamburg
1950, S. 227.
120 J. Wheeler-Bennett.
The
Nemesis of Power. The German Army in Politics 1918—1945. New York, 1954, p. 242.
266
бы для гитлеровской партии огромное значение, позволив
ей развернуть новую широкую пропагандистскую кампанию, а также усилить террор,
который несколько поутих после исчезновения коричневорубашечников с улиц.
Окончательная договоренность но этому вопросу была достигнута накануне самой
отставки Брюнинга, 28 мая, когда в переговоры с Гитлером вступил будущий
рейхсканцлер — Ф. фон Папен 121.
О том, что сделка была завершена во второй половине
мая, свидетельствует следующий факт. Переговоры между партией Центра и
гитлеровцами о создании коалиционного правительства в Пруссии увенчались
успехом, и, по некоторым сведениям, выборы министра-президента были назначены
на 28 мая122. Но совершенно неожиданно (и понять это, не зная
подоплеки, едва ли возможно) Гитлер отказался от намечавшегося соглашения 123.
Он посчитал гораздо более выгодным сговор с Папеном и Шлейхером.
Но, хотя увольнение Брюнинга и мотивировалось в первую
очередь неспособностью выполнить «веление времени» (как выражались
реакционеры), т. е. привлечь нацистов к участию в имперском правительстве, его
преемники пока тоже воздерживались от этого.
Германские монополисты, поощряя и финансируя
гитлеровскую партию, все еще не были окончательно уверены в своевременности
привлечения ее к власти. Часть их полагала, что для осуществления своей
программы достаточно будет вручить власть «испытанным» реакционерам из «старой
гвардии». Причины были двоякого характера: чрезмерность требований нацистов,
которые после своего крупного успеха на выборах в прусский ландтаг 24 апреля
еще более укрепились в претензиях на главенствующую роль, и стремление
отсрочить коренное решение вопроса до Лозаннской конференции по репарациям,
которая была перенесена на июль. Гинденбург, добиваясь создания нового
правительства, имел в виду, по его словам, людей типа Герделера
(обер-бургомистр Лейпцига, очень близкий к Национальной партии) и Шлейхера; сын
президента, чье мнение было весьма важным фактором, считал, что в правительстве
слишком мало титулованных особ 124.
-------------------------------------------------
121 «Trial of Major
War Criminals before the International Military Tribunal», v. XXXII. Nuremberg, 1948, p. 301, doc.
3463—85.
122 J. Becker. Bruning,
Pralat Kaas und das Problem einer Regierungsbeteiligung
der NSDAP 1930—1932.— «Historische Zeitschrift», 1963, Bd. 196, H. 1, S.
103; см. также: «Trial of
Major War Criminals...», vol. XLII. Nuremberg,
1949, p. 403, 409.
123 АBП СССР, ф. 82, п. 58, on. 16, д.
124 H.Punder. Politik
in der Reichskanzlei. Stuttgart, 1961, S. 126—127.
267
Выше уже не раз говорилось, что Брюнинг, приложивший
немало усилий для проведения единого политического курса с крайне правыми
партиями, считал пока нецелесообразным отказаться от поддержки со стороны
социал-демократии, которой он пользовался. Ни к чему не привели попытки
Брюнинга доказать президенту, что обвинения в «аграрном большевизме»
безосновательны 125. 30 мая правительство было уволено в отставку 126,
хотя за несколько дней до этого рейхстаг большинством голосов выразил ему
доверие.
Лишь накануне орган христианских профсоюзов «Дер
Дейче» писал: «Промышленники и аграрии ошибаются, рассчитывая на этот раз
устранить по меньшей мере Штегервальда. Подобному требованию, от кого бы оно не
исходило, канцлер будет противиться самым категорическим образом». На деле ни
Брюнинг, ни его покровители не сделали даже попытки остаться у власти вопреки
воле Гинденбурга. В статье, о которой речь шла несколько выше, Тревиранус
высказывает мнение, что такая попытка имела шансы на успех; автор приводит
заявления лидеров ряда партий о том, что они поддержат правительство, если оно
предстанет перед рейхстагом, добиваясь его помощи против президента. Тревиранус
очевидно «забыл», что Брюнинг и весь кабинет,— третировавшие рейхстаг и упорно
стремившиеся свести его роль к нулю,— и не желали опереться на него.
Это в корне противоречило концепции «президиального»
правительства, фактическим творцом которого был отставленный рейхсканцлер. В
своих мемуарах Брюнинг сам нашел очень точные слова для характеристики
положения, в которое поставил себя: «Чем больше я ограничивал власть рейхстага,
тем более становился зависим от президента и рейхсвера» ' .
Комментируя отставку правительства, орган Народной
партии «Кёльнише цейтунг» 31 мая
----------
125 В письме Гинденбургу от 27 мая Шланге-Шенинген писал:
«Не может быть и речи об экспроприации крупных поместий. Ни одно из них
не должно быть экспроприировано» (H. Schtange-Schoningen. The Morning
After. London, 1948, p. 85). Через 20 лет то же подтвердил тайный советник Э.
Рейххардт, ближе всего стоявший к разработке законопроекта. «Тогдашнее
развитие,— отметил он,— толкало к ясному, действенному решению, но вопрос о
радикальном разделе крупного землевладения... никогда правительством Брюнинга
не ставился» (H. von Borcke-Statgordt. Der ostpreussische Landbau..., S.
171).
126 Узнав об этом, Гитлер, по словам Геббельса, был
«вне себя от радости» (J. Gobbels. Vom Kaiserhof zur
Reichskanzlei, S. 104).
127 H. Bruning. Memoiren
1918—1934, S. 378.
268
литическим противникам». Естественно, «уважение» за
это могли питать лишь те, кто пожал плоды более чем двухлетних трудов
Брюнинга.
Начинался новый этап в ходе классовой борьбы,
принимавшей все более острые формы. Его отличительной чертой было все
усиливавшееся наступление фашизма, изготовившегося для овладения
государственной властью.
Процесс преодоления компартией сектантских ошибок не
исключал внезапных рецидивов этой «болезни». Уже после опубликования важных
статей Э. Тельмана, имевших целью покончить с подобными заблуждениями, в
циркуляре секретариата ЦК КПГ от 9 февраля
Состоявшийся в 20-х числах февраля пленум ЦК КПГ
способствовал устранению некоторых неверных оценок, мешавших сделать
сопротивление коричневой чуме более действенным. Пленум охарактеризовал
гитлеровскую партию как «наиболее активную боевую и террористическую
организацию финансового капитала» и призвал к непримиримой борьбе против всех
попыток нацистов распространить свое влияние на предприятиях и среди
безработных 129.
Пленум указал, что уничтожение гитлеризма является
национальной задачей. Чтобы добиться ее решения, Ф. Зельбман предложил
обратиться к руководству профсоюзов; это помогло бы преодолеть сужение политики
единого фронта только действиями снизу. М. Тезен требовал создания подлинно
надпартийных органов единого фронта. В решениях пленума установление единства
характеризовалось как решающее звено пролетарской политики в Германии 130.
Но понимание путей к сплочению антифашистских сил, как видно из документов, еще
далеко не во :ем соответствовало реальным условиям, в частности тому об-
----------------------------
128 Фонды
ГМР, 8014/5 Д445—11П6, стр. 4.
129 «Gueschichte der deutschen Arbeiterbewegung»,
Bd. 4, S. 325—326; «Beitrage zur
Geschichte der deutschen
Arbeiterbewegung», 1963, N 5—6, S. 864—865.
130 «Geschichte der
deutschen Arbeiterbewegung», Bd. 4, S. 326.
269
![]() стоятельству,
что значительная часть рабочего класса шла за социал-демократией. Это вызывало
законные опасения.
стоятельству,
что значительная часть рабочего класса шла за социал-демократией. Это вызывало
законные опасения.
В. Пик, выступая на пленуме, сказал: «В Германии
создалась ситуация, при которой фашизм может прийти к власти без того, чтобы
коммунистическая партия оказалась в состоянии ответить серьезными боями.
Создалась ситуация, при которой возможен разгром партии фашистами без того,
чтобы партии удалось повести массы на борьбу» 131. По мере
развертывания событий тревога усиливалась, и, естественно, это не могло не
возыметь последствий.
Последним из событий, показавших жизненную
необходимость изменить методы политики единого фронта, были выборы весной
Правда, специфика президентских выборов в значительной
мере иная, и приверженцы партии, особенно во втором туре, сознавали малую
вероятность избрания Тельмана, что, видимо, существенно понизило их активность.
Но тенденция обозначилась тем не менее вполне определенно, и это подтвердили последовавшие
через короткий срок выборы в ландтаги некоторых, притом наиболее крупных,
земель, в том числе Пруссии. По сравнению с 14 сентября
Именно на основании этого результата коммунисты, по
словам Э. Тельмана, «смогли констатировать начинающийся отрыв партии от масс» 133.
Уже в своем заявлении по поводу итогов первого тура президентских выборов ЦК
КПГ констатировал их неудовлетворительность для партии и указал на некоторые
недостатки в ее работе. «Мы не сумели,— говорилось в этом документе,— стать во
главе всех форм массового отпора наступлению предпринимателей и диктатуре
чрезвычайных декретов».
--------------------------
131 W. Pieck. Der
neue Weg zum gemeinsamen Kampf fur den Sturz
der Hitler-diktatur. Berlin, 1957, S. 27.
132 «Statistisches
Jahrbuch fur das Deutsche Reich 1932», S. 544—545.
133 «XII пленум Исполкома Коминтерна. Стеногр.
отчет», т. III. М., 1933, стр. 93.
270
Отмечалась недостаточность борьбы против гитлеровской
угрозы 134. В циркуляре секретариата ЦК КПГ, датированном 6 апреля,
т. е. за четыре дня до .второго тура, вновь подчеркивалась эта сторона 135.
Вместе с тем здесь же говорилось о необходимости «решительного применения
тактики единого фронта снизу с целью оторвать рабочих социал-демократов от их
руководителей».
Значительно более серьезными и далекоидущими были
выводы, сделанные после второго тура президентских выборов, а особенно после
выборов в ландтаги, состоявшихся 24 апреля. Уже на второй день, как только
стали известны итоги, ЦК КПГ и руководство Революционной профоппозиции
обратились с воззванием ко всем членам профсоюзов и социал-демократии, ко всем
немецким рабочим. «Дальше ждать нельзя,—говорилось в этом призыве.— Теперь,
после выборов, классовый враг попытается сломить нас. Объединяйтесь и боритесь
против капиталистических разбойников и против выступающих все более нагло
фашистских банд». ЦК КПГ и РПО заявляли о готовности бороться плечом к плечу «с
каждой организацией, в которой объединены рабочие и которая действительно
желает вести борьбу против снижения зарплаты и пособий» 136.
Предлагались конкретные меры, прежде всего проведение на всех предприятиях и
биржах труда собраний для выдвижения определенных требований и создания
комитетов борьбы из рабочих, принадлежавших к разным партиям, а также
беспартийных.
Значение этого обращения заключалось в том, что оно
существенно облегчало единство действий, решительно подтверждая тезис,
содержавшийся уже в письме ЦК от 29 ноября
Примечательные события произошли 5 мая
------------------------------
134 «Rote
Fahne», ШЛИ 1932.
135 Фонды ГМР, 8234/1
— 1 Д445—11T.
136 «Rote Fahne», 27.IV 1932.
137 Н. Karl, E. Kucklich. Zum Kampf der KPD fur die
antifaschistische Einheitsfront im Bezirk Berlin-Brandenburg im Fruhjahr
1932.—«Beitrage zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung», 1963, H. 5—6.
271
![]() ние, созванное местными комитетами КПГ, СДПГ,
профсоюзов и других массовых организаций; собрание, на котором выступили
депутат рейхстага от КПГ А. Кунц и два социал-демократа, приветствовало
обращение компартии и Революционной профоппозиции от 25 апреля 138.
ние, созванное местными комитетами КПГ, СДПГ,
профсоюзов и других массовых организаций; собрание, на котором выступили
депутат рейхстага от КПГ А. Кунц и два социал-демократа, приветствовало
обращение компартии и Революционной профоппозиции от 25 апреля 138.
Осознание сектантских ошибок, сильнейшим препятствием
для преодоления которых было сопротивление Неймана, Реммеле и их
единомышленников, все еще остававшихся в руководстве партии, можно наглядно
ощутить по циркулярному письму секретариата ЦК КПГ от 29 апреля
Секретариат ЦК КПГ отмечал в данном документе, что
снятие в свое время вредного лозунга: «Бейте фашистов, где бы вы их не
встретили»,— предполагало значительное расширение идеологической борьбы против
нацистов. «Но практические последствия этого пока очень невелики». Между тем
последние успехи гитлеровцев вызывают необходимость несравненно более
интенсивной борьбы против нацистской идеологии. Весьма характерен вывод,
содержащийся в этом письме: «Каждый функционер партии должен понять, что
прежние методы недостаточны для развязывания крупных выступлений, забастовок,
массовых действий против фашизма и т. п.». В письме говорилось о настроениях,
мешающих выполнению решений партии, и, хотя слово сектантство здесь не
употреблено, контекст не оставляет сомнений, что имелись в виду именно
проявления последнего. Об этом свидетельствует приведенный пример: предложение
фракции КПГ в баденском ландтаге о роспуске «Рейхсбаннера» (напомним, что оно
совпало с аналогичными требованиями противников республиканского строя). Данное
предложение, подчеркивается в документе, «служит выражением того, к каким
------------------------
138 «Geschichte der
deutschen Arbeiterbewegung», Bd.
4, S. 332.
139 Фонды ГМР, 8259/2 Д445—1IA, стр. 2, 5—7.
272
опасным, вредным для партий последствиям может Привести
это (т. е. сектантские настроения.— Л. Г.)» 140.
Главное значение рассмотренного нами документа
заключается, на наш взгляд, в осознании компартией необходимости поисков новых
форм борьбы против реакции во всех ее разновидностях, таких форм, которые
позволили бы придать отпору реакции, антифашистскому движению подлинно массовый
размах. А это могло быть только результатом единства трудящихся, их сплочения
для решительной борьбы против «коричневой чумы», уже пытавшейся схватить
немецкий народ за горло. В течение месяца, прошедшего после весенних выборов,
необходимые меры являлись предметом рассмотрения ЦК КПГ. Результаты этого
рассмотрения обсуждались на пленуме ЦК, проходившем 24 мая и ставшем важнейшей
вехой на пути к подлинному единому фронту.
В своем докладе на майском пленуме Э, Тельман указал,
что грозящее вступление гитлеровцев в имперское или прусское правительство
ускорит развитие к открытой фашистской диктатуре и поэтому необходимо
предотвратить его всеми парламентскими и непарламентскими средствами. С этой
целью следует найти компромисс с фракциями СДПГ и партии Центра в прусском
ландтаге. Главное же, необходимо определить те новые пути, которые бы позволили
наконец создать всеобъемлющий антифашистский фронт, чтобы помешать нацистам
прийти к власти. Э. Тельман внес важное предложение о призыве к «Антифашистской
акции» 141.
Однако сложные условия не позволили обсудить это
предложение во всех деталях. Обнародование призыва ЦК КПГ было ускорено
событием, как нельзя более подчеркнувшим, что фашистская угроза превратилась в
силу, которая накладывает свою печать буквально на все стороны общественной
жизни. 25 мая на заседании прусского ландтага нового созыва гитлеровцы, имея
более 160 депутатов и возомнив себя хозяевами, учинили форменное побоище депутатов-коммунистов,
ранив многих из них. Поводом для расправы над своими политическими
противниками, численно значительно уступавшими им, фашисты избрали речь
Вильгельма Пика, выступавшего от имени коммунистической фракции и смело
разоблачившего антинародную политику гитлеровской партии. «Только с появлением
в политической жизни вашей партии,—воскликнул В. Пик, обращаясь к
нацистам,—стали обычными массовые убийства революционных рабочих. В ваших рядах
сидит огромное количество убийц» 142.
-------------
140 Фонды
ГМР, 8259/2 Д445— 11А, стр.
3.
141 «Geschichte der
deutschen Arbeiterbewegung», Bd.
4, S. 337-338.
142 W.Pieck.
Reden
und Aufsatze, Bd. IV. Berlin, 1955, S.
662.
273
В начавшейся Потасовке социал-демократические депутаты
не оказали коммунистам, подвергшимся наглому нападению, никакой помощи; после
начала столкновения они быстро покинули зал.
Уже на следующий день, 26 мая
Кампания, развернутая по инициативе компартии, явилась
решительным контрастом с бахвальством главарей «Железного фронта», на словах
клявшихся не допустить прихода фашистов к власти, а на деле все время
отступавших перед ними. Уже сразу после президентских выборов, уступая
требованию военного министерства, «Рсйхсбаннер» — главная сила «Железного
фронта» — распустил свои боевые группы, которые могли бы сыграть немалую роль в
борьбе против кровавого фашизма. Весной
«Антифашистская акция» была важным шагом к преодолению
сектантства в рядах КПГ 145. Всю своевременность этой кампании
показали события ближайших же дней и недель.
--------------------------
143 «Die
Antifaschistische Aktion. Dokumentation und Chronik. Mai 1932 bis Januar 1933».
Berlin, 1965, S. 33.
144 «Der Weg in die Diktatur 1918—1933», S. 85.
145 Одновременно майский пленум ЦК КПГ избрал новый состав
секретариата, в который больше не входил Нейман, что лишило его главной
возможности влиять на политику партии. Но он еще оставался кандидатом в члены
Политбюро ЦК КПГ («Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung», Bd. 4, S. 338).
ПРОФАШИСТСКИЙ
«КАБИНЕТ БАРОНОВ»
Фон Папен и
его министры
Уже через два дня после ухода Брюнинга в отставку — 1
июня
Папен являлся одним из главарей «Клуба господ»,
объединявшего крупных землевладельцев, а также промышленников — консерваторов и
реакционеров. Выступая в самом клубе и на страницах издававшегося последним
журнала «Ринг», Папен настойчиво пропагандировал две идеи: вовлечение нацистов,
а также представителей других крайне правых организаций в правительство2
и создание франко-германского блока, направ-
------------------------------------------
1
Действительно, приход Папена к власти вызвал явное разочарование американских
официальных лиц. Но не потому, что их шокировало возвышение бывшего шпиона.
«Было ясно,— сообщали из столицы США,— что назначение Адольфа Гитлера было бы в
Вашингтоне более популярно» («New York Times», l.VI 1932).
2 Уже в ноябре
275
ленного против Советского Союза, Последняя по времени
статья Папепа в этом духе была опубликована в апреле3. Эти
выступления обратили на себя внимание его бывшего сослуживца Шлейхера,
подыскивавшего кандидата на высший исполнительный пост в государстве, который
мог бы устроить дворцовую камарилью. Папен
был бездарным политиком (характерно, что он сам на предложение
сформировать правительство вначале ответил: «Я не подготовлен к принятию столь
тяжелой ответственности и сомневаюсь, являюсь ли подходящим человеком»4).
Подобная личность — его единственным, но бесспорным «достоинством» была
махровая реакционность5,— стала, рейхсканцлером Германии в
сложнейшей обстановке, когда решался вопрос об исторических судьбах страны.
Кабинет Папена молва нарекла «правительством баронов»;
в своем большинстве он состоял из представителей титулованной знати —
реакционных зубров, впервые после Ноябрьской революции сумевших стать у кормила
государственной власти и не скрывавших своего стремления покончить с Веймарской
республикой 6. Среди членов нового правительства — также впервые со
времени Ноябрьской революции — не было ни одного депутата рейхстага. Еще до
отставки Брюнинга Шлейхер писал Папену; '«Я уже составил кабинет из
специалистов, который безусловно понравится Вам»7. Важный пост министра
-----------------------------
3 «Der Ring», 1932, N 16.
4 F. von Papen. Vom Scheitern einer
Demokratie. 1930—1933. Mainz, 1968, S.
193.
5 Вот некоторые отзывы о
нем современников: Т. Хейс (в то время депутат от Государственной
партии, после
6 Характер «кабинета
баронов» столь очевиден, что он, как правило, не оспаривается и в буржуазной
литературе. Тем не менее Т. Фогельзанг пишет, что нынешние знания о планах
Гинденбурга и Шлейхера якобы «делают более чем сомнительным, чтобы последние
этой сменой правительства действительно собирались начать новый этап во
внутренней политике» (Th Vogelsang. Reichswehr, Staat und NSDAP.
Stuttgart, 1962, S. 208). Это грубо искажает историческую истину, противоречит
фактам, свидетельствующим, что задачей правительства Папена было резко усилить
фашизацию страны.
7 «Die Weimarer Republik. Ihre
Geschichte in Texten, Bildern und Dokumen-
276
иностранных дел в новом правительстве занял барон
Нейрат, мракобесные взгляды которого пи для кого не были секретом. Любопытно,
что Гинденбург уже не
впервые стремился поставить Нейрата во главе дипломатического ведомства8,
но тот отказывался, ибо прежние кабинеты, включая правительство Брюнинга, были
слишком «демократичны» для него. Другой барон, М. Браун, крупный помещик и в то
же время член правления Рейхсбанка, стал министром продовольствия. Министерство
внутренних дел было вручено уже известному нам барону фон Гайлю, для которого
устранение правительства Брюнинга представляло собой, таким образом, немалый
личный выигрыш 9.
Но центральной фигурой нового кабинета, несомненно,
был фон Шлейхер, покинувший армию в чине генерал-лейтенанта, чтобы занять пост
военного министра. «Серый кардинал», как его называли, наконец вышел из-за
кулис. «План правительства Шлейхера,— писал 8 июня центральный орган КПГ,— явно
сводится к тому, чтобы продолжить диктаторское правление после выборов — с
парочкой министров-нацистов или без них».
Во главе министерства хозяйства вновь стал
«уполномоченный» «ИГ Фарбениндустри» Вармбольд, только недавно покинувший
кресло министра, чтобы помочь реакции осуществить свой план. Другой ставленник
монополий — бывший директор концерна Круппа Шефер — был назначен министром
труда. Новым лицом был также министр юстиции Гюртнер, но и его политическая
физиономия была известна: занимая аналогичный пост в Баварии, Гюртнер энергично
покровительствовал нацистам. Именно ему Гитлер был обязан своим амнистированием
через год с небольшим после «пивного путча»; фашисты отблагодарили Гюртнера,
включив его ,в январе
Руководство партии Центра, которое Папен поставил в
известность о предложении Гинденбурга, запретило ему принять
-------------------------------------------------------------
ten». Munchen — Wien — Basel, 1965, S. 356, Уже
19 мая Геббельс был осведомлен о том, что Шлейхер готовит список членов нового
кабинета, а 24 мая он записал в дневник имена будущих рейхсканцлера и министра
иностранных дел — Папена и Нейрата.
8 «Trial of Major
War Criminals before the International Military Tribunal», vol. XL. Nuremberg, 1949, p. 445.
9
Левобуржуазная «Франкфуртер цейтупг»
в передовой статье, озаглавленной «Монархия или республика?», писала:
«Поразительная страна, в которой принципиальный и убежденный монархист...
принимает назначение на пост хранителя республиканской конституции»
(«Frankfurter Zeitung», 12.VI 1932).
277
это предложение. Причиной было резкое недовольство
лидеров партии вынужденной отставкой Брюнинга. Но, как заявил председатель
партии прелат Каас па приеме у Гинденбурга 31 мая, Центр был вообще против
«промежуточных решений», предлагая передать власть «национальной оппозиции»,
важнейшей составной частью которой, как известно, была гитлеровская партия 10.
Характерно, что и дальнейшая оппозиция Центра правительству Папена обосновывалась,
в частности, тем, что в его кабинете не представлены нацисты. Однако Папен
пренебрег указаниями партии и все-таки сформировал правительство {хотя твердо
обещал не делать этого), правда, уже не в качестве представителя Центра, а как
«частное лицо» 11.
«Правительство баронов», разумеется, не было возвратом
к политическому господству юнкерства, имевшему место до Ноябрьской революции
Правительство поддерживали влиятельные группировки
германской буржуазии, в том числе одна из крупнейших монополий Германии—«ИГ
Фарбениндустри». Тем не менее положение нового кабинета с самого начала было
весьма неустойчиво. Покровители нацизма, добившиеся обещания возродить
штурмовые отряды и распустить рейхстаг, все же не были удовлетворены, ибо их
питомцы пока остались не у дел 14. Если бы Папену понадобилась
поддержка парламентского большинства, то обеспечить это было бы нелегко. Он мог
твердо рассчитывать лишь на голоса Национальной и Народной партий, а также
небольших консервативных групп. КПГ, партия Центра и СДПГ (заявившая о своей
оппозиции правительству Папена) были против него. Гитлеровцы добивались всей
власти, а круги, стоявшие за Папеном и Шлейхером, несмотря на свои ис-
----------------------------------
10 DZAP, Buro des
Reichsprasidenten, N 47, Bl. 44.
11 G. Schreiber, Bruning — Hitler —
Schleicher. Das Zentrum in der Opposition Koln, 1932, S. 17.
12 «XII
пленум Исполкома Коминтерна», т. III. М., 1933, стр 98
13 «Rote
Fahne», 5.VI 1932.
14 Среди
материалов, связанных с созданием правительства Папена, хранящихся в архивных
фондах канцелярии имперского президента, имеется письмо крупного помещика
Люнинка. Он мотивирует свой отказ вступить в новый кабинет тем, что во главе
его не находится «та группа национального фронта, которая приобрела наибольшее
значение благодаря... своей энергии и росту численности». Люнинк отмечал, что
его точку зрения не колеблют «сомнения по поводу некоторых частных планов этого
движения» (DZAP, Buro des Reichsprasidenten, N 47, Bl. 54).
278
кренние симпатии к гитлеризму, опасались этого,
полагая, что результатом будет гражданская война. Папену предстояло убедиться
не только в вероломстве его союзников — нацистов, по и в своей изоляции даже в
буржуазном лагере.
Но на первых порах Шлейхер и его «команда» упивались
успехами закулисных махинаций, приведших их на высшие посты в государстве.
Одновременно уточнялись планы на ближайшее время. Помимо основной цели —
привлечения нацистов к участию в управлении страной,— правительство Папена с
самого же начала приступило к разработке реакционной реформы конституции, имея
в виду если не отменить ее полностью, то со всяком случае основательно
выхолостить. В качестве составной части такого плана фигурировало установление
непосредственной унии в руководстве имперским и прусским правительствами. С
этой целью, как сообщали газеты уже в начале июня, намечалось назначить в
Пруссию имперского комиссара, который заменил бы прусское правительство, не располагавшее
большинством в ландтаге. В обзоре немецкой печати, составленном пресс-атташе
советского посольства в Берлине 4 июня, говорилось: «На сегодняшний день больше
данных утверждать, что Пруссия, по крайней мере на ближайшее время, окажется в
руках того же Шлейхера, который в связи с невозможностью образования
парламентского кабинета назначит Гайля или Папена прусским комиссаром» 15.
Планы «баронов» касались нового снижения заработной
платы и пособий по социальному обеспечению. Все это, правда в несколько
завуалированной форме, было изложено в правительственной декларации, зачитанной
Папеном по радио. «Прежние правительства,—- утверждали новые вершители судеб
страны,— пытались превратить государство в орган благотворительности... Именно
это еще более умножало безработицу» 16. Наряду с подобными лживыми
утверждениями, впервые в официальном документе появился пресловутый термин
«большевизм в области культуры» 17. Коротко, но предельно точно
охарактеризовал это заявление либеральный публицист Г. Кесслер: «Немыслимый
документ, плохо отредактированный сгусток мрачной реакции, по сравнению с
которым декларации кайзеровского правительства выглядят как образчик высокого
Просвещения»18.
---------------------
15 АВП СССР,
ф. 82, п. 58, оп. 16, д.
16 «Deutsche
Allgemeine Zeitung», 4.VI 1932.
Вот что писал на сей счет Папен незадолго до прихода к
власти: «...врагом является большевизм в области культуры в любой своей
форме... К его последователям необходимо причислить каждого, кто не
воспринимает тяжелую судьбу немецкого народа как свою собственную и не
приобщается к ней» (G. Buchheit. Im Schatten Bismarcks. Bruning — Papen
— Schleicher. Berlin — Leipzig, 1933, S. 76). Под такое «определение» можно
было подвести любого.
17 Н. Kessler. Tagebucher 1918—1937. Frankfurt
a/M., 1961, S. 670.
279
А Г. Штольпер писал, что заявление, с которым выступил
Па-пен, «не имеет ничего подобного себе в истории Германии». Термин «большевизм
в области культуры», подчеркивал Штольпер, «вероятно, худший в этой низменной
пропаганде. Для определенных кругов Германии он служит синонимом всех форм
проявления современной жизни» 19.
Первым шагом правительства явился роспуск рейхстага в
угоду нацистам20, заинтересованным в развертывании новой
демагогической шумихи, что до той поры неизменно приносило им большой выигрыш21.
Декрет о роспуске парламента (полномочия которого истекали только в
Таким образом, новое правительство в самый короткий
срок показало свою сущность смертельного врага народных масс, друга и
единомышленника фашистов. 13 июня Папен вновь втайне встретился с Гитлером;
свидание состоялось на квартире брата главы «Клуба господ» В. Альвенслебена 23.
А 16 июня,
--------------------------
19 «Der deutsche Volkswirt», 1932, N 37,
1211—1212.
20 Необходим был, однако, и какой-либо
формальный повод для роспуска. Его пытались изыскать па заседании правительства
2 июня, но так и не сумели; было решено поручить это министру внутренних дел
(DZAP, Reichs-kanzlei, Kabinettssitzungen, N 753, Bl. 790 076).
21 Как раз с
эти дни фашисты сумели добиться ощутительного успеха на выборах мекленбургского
ландтага, где они получили абсолютное большинство. Премьер-министром здесь стал
помещик Грапцов, тесть Геббельса.
22 «Rote
Fahne», 15.V1.1932; ЦПА ИМЛ, ф. 215, оп. 1, ед. хр. 82 (пропагандистский
материал СДПГ к выборам 31 июля, стр. 11, 21); фонды ГМР, 8480/1 Д445—ПШ
(листовка КПГ, июнь
23 H.-O. Meissner, H.
Wilde. Die Machtergreifung,
Stuttgart, 1958, S. 88.
280
не откладывая в долгий ящик, президент отменил запрет
штурмовых и охранных отрядов гитлеровской партии24. Папен спешил
сдержать свое обещание Гитлеру, не считаясь даже с тем, что это втягивало правительство
в конфликт с рядом земель (провинций). В апреле правительства Баварии, Бадена,
Вюртемберга активно поддерживали роспуск штурмовиков; планы же их легализации
натолкнулись на упорное сопротивление этих земель. На приеме глав
провинциальных правительств Гинденбургом 12 июня представитель Баварии Гельд
заявил, что по меньшей мере 2/з баварского населения увидит в
разрешении деятельности коричневорубашечников большое несчастье. «Отмена
запрета штурмовых отрядов представляет собой, с баварской точки зрения,
легализацию терроризма, прокладывает путь тем, кто стремится установить
диктатуру»25. Ту же позицию занял представитель Бадена Шмитт. Он
указал, что штурмовые отряды носили противозаконный характер; это вытекает и из
ряда решений имперского суда (настроенного отнюдь не анти-нацистски), принятых
на протяжении 1930—1931 гг.
Тактика Папена и Гинденбурга сводилась к тому, чтобы
«умиротворить» южно-германцев, успокоить их всякого рода пустыми обещаниями. И
эта тактика увенчалась успехом: ни Бавария, ни Вюртемберг, ни Баден не приняли
сколько-нибудь действенных мер, когда правительство Папена пренебрегло их
протестами. Характерно, что Гинденбург и Папен, как видно из протокола этой
встречи, говорили не только о гарантиях против «крайностей» нацистских штурмовиков.
Гинденбург, например, прямо заявил, что «национал-социалистское движение, хотя
в нем есть много неопределенного, все же одушевлено сильным национальным
чувством». В этих словах проявилось внутреннее родство милитариста старого
закала с фашистами, добивавшимися передела мира.
В ходе приема у Гинденбурга неизбежно всплыл и другой
вопрос, волновавший правительства земель не менее, если не более, чем
легализация штурмовых отрядов. То были слухи о намерении Папена назначить
имперского комиссара в Пруссию, что могло стать прецедентом для аналогичных
действий и в отношении других земель, которые были значительно меньше и слабее
Пруссии. Об этом шла речь уже 11 июня на встре-
----------
24 В
порядке взаимности Геббельс, возглавлявший отдел пропаганды нацистской партии,
издал 18 июня секретный циркуляр, в котором говорилось: «В этой предвыборной
кампании необходимо избегать какой-либо дискуссии о правительстве Папена в
органах партии» (ЦПА ИМЛ, ф. 215, оп. 1, ед. хр. 194). В дневнике же он
записал: «Мы должны как можно скорее отмежеваться от этого переходного
буржуазного кабинета... иначе мы погибли» (J. Gdbbels. Vom Kaiserhof zur
Reichskanzlei. Berlin, 1934, S. 107, 111).
25 W. Besson. Wurttemberg und die deutsche
Staatskrise 1928 bis 1933. Stuttgart,
1959, S. 402.
281
че представителей земель с представителями имперских
властей26. А придя на следующий день к Гинденбургу, те же лица услыхали из уст Папена заверения
в том, что правительство «не собирается проводить каких-либо экспериментов,
связанных с назначением имперского комиссара». Рейхсканцлер добавил, что
введение такого поста — крайняя мера, оправданная лишь тогда, когда
действительно затронуты жизненно важные интересы всего государства 27.
Неизвестно, приняли ли всерьез эти красивые слова те,
кому они были адресованы, но заявление Папена было лживым от начала до конца.
На деле уже в эти дни правительство искало пути и способы осуществления своего
замысла. Нужно было только найти «подходящий» повод для вмешательства. Папен и его единомышленники торопились;
сотрудничая с гитлеровцами, они в то же время хотели помешать созданию в
Пруссии коалиционного правительства из представителей нацистской партии и
Центра — «черно-коричневого блока», как говорили тогда. Переговоры о такой'
коалиции, близкие к завершению накануне отставки Брюнинга, как уже отмечалось,
могли в любое время возобновиться.
Разрешение разбойничьей деятельности
коричневорубашечников и эсэсовцев безусловно было наиболее опасным, имевшим
весьма тяжелые последствия действием правительства в первый период его
пребывания у власти. Фашисты встретили этот акт форменным ликованием.
«Исключительный закон против штурмовых и охранных отрядов,— писал 17 июня
центральный орган фашистской партии «Фелькишер беобахтер»,— пал, как предвестие
грядущей передачи правительственной власти национал-социализму». Улицы
германских городов и деревень вновь наводнили фашистские банды в полной форме,
развернувшие в расчете на полную безнаказанность террор невиданного
ожесточения. Ежедневно газеты приносили все новые сообщения о наглых фашистских
провокациях — походах по рабочим районам под защитой полиции, уличных убийствах
функционеров коммунистической и социал-демократической партий, нападениях на их
квартиры и на помещения рабочих организаций. Штурмовики были вооружены до
зубов, они имели не только пистолеты новейших образцов, но также бомбы и ручные
гранаты 28.
--------------------------------
26 Th. Vogelsang, Reichswehr,
Staat und NSDAP, S. 216.
27 W. Besson. Wiirttemberg
und die deutsche Staatskrise..., S. 404.
28 Официальные
американские документы—материалы специальной комиссии сената США по обследованию военной
промышленности — содержат доказательства
того, что гитлеровские банды широко использовали американское оружие.
Именно к июню
282
Чтобы рассказать о фашистском терроре, развернувшемся
в Германии летом
«Антифашистская акция» и
противники единства
Но история классовой борьбы в Германии кануна
установления гитлеровской диктатуры — не только повесть о фашистском терроре.
Это прежде всего летопись беспримерного героизма немецких демократов,
руководимых коммунистической партией, их мужества и решимости преградить
фашистам путь к власти. В неравной борьбе, которую пели антифашисты, им не раз
удавалось обращать гитлеровских выродков в бегство. Момент начала кампании
«Антифашистская акция» совпал с наибольшим размахом фашистских бесчинств.
Впервые отпор гитлеровскому террору начал приобретать массовый характер, хотя
руководство социал-демократии и противилось всеми силами единству.
В ответ на призыв ЦК КПГ уже с конца мая повсеместно
стали формироваться комитеты единого фронта и отряды самообороны. В Бреслау
(Вроцлав) в антифашистскую боевую дружину записалось 1500 человек, в том числе
много беспартий-
--------------
нацистской партии почти целиком вооружены
американскими револьверами и пулеметами марки Томпсон» («Munition Industry. Report of the
Special Committee on Investigation of the Munition Industry». P. 3. Washington,
1936, p. 260).
29 «Правда»,
2.VIII 1932.
30 Приведем
лишь один пример. После антинацистской демонстрации в берлинском Люстгартене
завязалось столкновение между гитлеровцами и коммунистами. Один из полицейских
чиновников пришел на помощь фашисту, И, не раздумывая, застрелил 68-летнего
рабочего (ЦПА ИМЛ, ф. 215, oil 1,
ед. хр. 210). В своей книге Брюнинг пишет, что в это время власти «нигде не
оказывали отпора разбою штурмовиков» («забывая», что при нем было немногим
лучше) (Н. Bruning. Memoiren
19I8—1934. Stuttgart 1970, S. 620).
283
ных и Социал-демократов,
столько же в портовом городе Вильгельмсгафене; 300 человек вступило в
отряд, созданный в Бремерхафене. В Бранденбурге
на многолюдном собрании {в нем участвовало, среди других, около 250
рейхсбаннеровцев) 400 рабочих вступило в отряды самообороны; в сформированный
здесь комитет единства входили три социал-демократа, три члена «Рейхсбаннера»,
семь коммунистов и несколько беспартийных пролетариев31. Комитеты
единого фронта возникли также в ряде районов Берлина и некоторых его
предместьях, в Алленштейне, Бойценбурге, Хемнице, Вестхаузене (Франкфурт-на-Майне),
Штутгарте и др.32.
В городах, где происходили вылазки бесчинствующих
фашистских молодчиков, отрядам самообороны пришлось сразу же вступить в
действие. Так, 17 июня гитлеровцы совершили нападение на комитет КПГ в
Дюссельдорфе, но натолкнулись на решительное сопротивление рабочих, в числе
которых были не только коммунисты, но также и социал-демократы, и беспартийные.
18—19 июня рабочие Вупперталя сообща оказали отпор попыткам гитлеровцев
завладеть улицами и благодаря своей сплоченности вышли победителями 33.
В Берлине объединенными усилиями коммунистов и социал-демократов было отбито
нападение на экспедицию центрального органа КПГ «Роте фане» в районе Нейкельн.
25 июня коммунисты помогли рабочим—членам «Рейхсбаннера» отразить атаку
фашистов на редакцию социал-демократической газеты «Форвертс», предпринятую в
отместку за появившиеся в этом органе разоблачения гитлеровских бесчинств. А в
конце июня отряд самообороны, созданный по инициативе коммунистов, обратил в
бегство нацистов, напавших на отделение «Рейхсбаннера» в северном Берлине;
результатом этих событий было присоединение многих берлинских социал-демократов
и рейхсбаннеровцев к «Антифашистской акции» 34.
Единство в отпоре фашистскому террору сложилось в
Бреслау, где коричневорубашечники пытались провести шествие по улицам города.
Даже «Форвертс» вынужден был написать по этому поводу: «Примечательно, что в
момент опасности, созданной национал-социалистскими провокациями, стихийно
проявилось твердое единство рабочих. Фашисты повсюду натолкнулись на
решительную волю бреславльских пролетариев к
-------------------------
31 «Rote Fahne», ll.VI, 1.VI1 1932.
32 «Geschichte der
deutschen Arbeiterbewegung», Bd. 4.
33 «Rote Fahne», 21.VI
1932.
34 Cm. P. Haider. Uber den Massenselbstschutz in der ersten Etappe der
Antifaschistischen Aktion.— «Zeitschnft
fur Militargeschichte», 1964, N 1, S. 64— 65.
284
отпору» 35. В рурском городе
Гаттингене 30 июня фашисты совершили разбойничье нападение на дом Революционной
профоппозиции, во время чего было убито 2 и ранено около 50 рабочих. 5 июня
здесь состоялась мощная антифашистская демонстрация, в которой, наряду с
коммунистами, участвовали 800 рейхсбаннеровцев в форме36. В одном из
промышленных центров Рура, Дуйсбург-Гамборне,
где фашисты убили рабочего Бишофа, похороны последнего превратились
в демонстрацию единства. За гробом шло свыше 40 тыс. пролетариев, на кладбище с
гневными речами выступили представители КПГ и «Железного фронта»37.
В Любеке совместными усилиями рабочих, принадлежавших к различным партиям, было
сорвано выступление Гитлера 38.
«Антифашистская акция... придала нашим требованиям
большую уверенность. Они стали значительно активнее»,—писал в те дни рабочий
Бергер из Брамбаха (Бадей). А вот что говорит писатель-коммунист А. Курелла, вспоминая
то время: «Эти недели... были настоящим праздником пролетариата. Вместо того
чтобы ругать друг друга на собраниях, взаимно разгонять группы расклейщиков
листовок, мешать проведению собраний (дошло уже и до этого), КПГ, СДПГ и
«Рейхсбаннер» стали действовать сообща против нацистов, защищали друг друга,
блокировали казармы штурмовиков... Последние некоторое время не могли даже
появиться на улице, и Геббельс кричал: '«Мы окружены!» Объединенные в
«Антифашистской акции» рабочие ощутили вдруг свою силу и дали ее почувствовать
Врагу» 39-40_ \
Это особенно хорошо можно проследить по дневнику
Геббельса, в частности по записям, сделанным им во время поездки в
Рейнско-Вестфальский промышленный район в середине июля. В первом же городе —
Хагене —машина Геббельса столкнулась с колоннами нескрываемо враждебно
настроенных людей, и фашистский главарь вынужден был под градом камней
убраться. Даже на своей родине (в Менхен-Гладбахе) Геббельс был встречен
ругательствами, проклятиями, плевками, и ему пришлось во избежание худшего
ретироваться. В дальнейшем Геббельсу оставалось лишь передвигаться по Руру замаскиро-
---------------------------
35 «Vorwarts», 23.V1 1932.
36 «Rote Fahne»,
7.VII 1932.
37 «Die
Antifaschistische Aktion», S. 133.
38 Е. Puchmuller. Mit
beiden Augen. Rostock, 1966, S. 113. В
комитет по созданию единого фронта здесь входил Герберт Фрам —он же В. Брандт,
ныне Руководитель западногерманской социал-демократии. В то время Брандт
принадлежал к Социалистической рабочей партии, отколовшейся от СДПГ (ibidem,
S. 111).
40 «Einheit, Sonderheft, September 1962, S. 71-72.
285
панно, причем, как он пишет, его машина повсюду шла
мимо «коммунистических пикетов» 41.
Подъем массового движения проявился в созыве
антифашистских съездов во многих городах Германии. Первый из них состоялся 12
июня в Дармштадте и собрал 1550 делегатов и гостей; многие из них принадлежали
к социал-демократической партии42. Еще более представительным
был антифашистский съезд Приморского округа — одного из основных промышленных
районов страны; в его работе участвовало 1719 делегатов, принадлежавших к
разным партиям и беспартийным43. Съезды, в ходе которых
подтверждалась решимость революционных рабочих в борьбе против кровавого
фашизма., прошли в Бонне, Кобленце, Мерзебурге, Штутгарте, Трире и ряде других
мест.
10 июля открылся антифашистский конгресс в Берлине,
фактически носивший общегерманский характер. Среди 1465 человек, съехавшихся на
этот конгресс, 132 принадлежали к СДПГ и СРП, 984 были беспартийными.
Выступления его делегатов убедительно показали, что лозунг «Антифашистской
акции» подхвачен значительной частью рабочего класса. Большое значение имело
послание ветерана германского рабочего движения К. Цеткин, обращенное к
делегатам конгресса. «Этот единый фронт,— писала она,— должен выйти за пределы
одного пролетариата и охватить также служащих, ремесленников, мелких крестьян и
не в последнюю очередь интеллигентов всех специальностей» 44.
На конгрессе выступил Э. Тельман, речь которого была
страстным призывом к единству. Тельман говорил о возросшей опасности
установления фашистской диктатуры, о несломленной силе германского
пролетариата, который ненавидит гитлеровских наймитов капитала и полон
стремления помешать им пробраться к власти. Председатель коммунистической
партии разъяснял пролетариям разных убеждений, что лишь совместной борьбой
можно помешать лишению трудящихся всех прав, подавлению пролетарских
организаций, прессы, собраний, демонстраций. «Вы, товарищи
социал-демократы,—сказал Э. Тельман,— присоединились к Антифашистской акции, не
переставая из-за этого быть социал-демократами. Мы очень хорошо знаем, что вы
не хотите вдруг, сегодня же сделаться коммунистами. Но мы верим вам, что вы
решили совместно с нами осуществить то, чего хотим и мы, и вы,— разбить фашизм»
45.
Накануне конгресса состоялась пятичасовая беседа Э.
Тельмана с группой рабочих социал-демократов, участвовавших в
-------------------------------
41 J. Gobbels. Vom Kaiserhof zur
Reichskanzlei, S. 127—129.
42 «Die Antifaschistische Aktion», S. 97—98.
43 «Rote Fahne», 16,
28.V1 1932.
44 «Internationale Pressekorrespondenz», 1932, N 57, S.
1797.
45 Е. Thalmann. Was will die Antifaschistische Aktion? Berlin, 1932, S. 3—4.
286
работе конгресса. Она проходила в форме ответов на
многочисленные вопросы, интересовавшие членов СДПГ и касавшиеся самых
животрепещущих сторон политической жизни. Ответы Тельмана показали не только
тем 20 функционерам СДПГ, которые лично беседовали с ним, но и многим другим,
что намерения КПГ, вопреки утверждениям социал-демократических лидеров, искренни
и честны. «Самая жгучая проблема, которая не дает покоя сегодня всем без
исключения рабочим,— сказал Э. Тельман во время беседы,— это: как можно
помешать установлению в Германии фашистской диктатуры?»46.
Значительно более трезвая, чем ранее, оценка положения,
содержалась в циркулярном письме секретариата ЦК КПГ от 4 июня — первом после
прихода правительства Папена к власти. Здесь совершенно справедливо
указывалось, что последние события свидетельствуют не только о трудностях для
немецкой буржуазии, но и о том, что «благодаря исключительному нарастанию
национал-социалистского движения буржуазия чувствует себя достаточно сильной,
чтобы перейти во фронтальное наступление на пролетариат» 47. Это
положение свидетельствует о ясном понимании опасности, вызванной событиями
последних месяцев, в первую очередь непрерывным усилением гитлеровской партии,
этого орудия крупного капитала. В циркулярном письме от 4 июня содержалась
также важная мысль, до того времени считавшаяся неверной: о том, что
разногласия социал-демократии и гитлеровской партии относительно методов
управления «при определенных условиях могут принимать характер ожесточенных
конфликтов».
Этот документ еще исходил из положения, что главный
удар в рабочем классе наносится по социал-демократии. «Каждому
коммунисту,—говорилось здесь,— должно быть ясно: классовая политика обязывает
нас прежде всего изолировать социал-демократию, отнять у нее рабочих». Однако в
трактовку данного вопроса были внесены коррективы: «Эта стратегическая
ориентировка отнюдь не означает, что в своей агитации и пропаганде мы грубо и
схематично предпочитаем всем другим задачам разоблачение СДПГ... Главный удар
по социал-демократии означает не непрекращающуюся «ругань» по адресу СДПГ, а
прежде всего самостоятельную организацию классовой борьбы» 48.
Подвергая критике позицию командования «Рейхсбаннера», указанное письмо
подчеркивало вместе с тем: «Но мы никогда не пойдем с приверженцами
нацизма против «Рейхсбаннера», а, наоборот — с
рабочими-рейхсбаннеровцами против штурмовиков».
-----------------------------------
46 «Wie schaffen wir
die Rote Einheitsfront?». Berlin, 1932.
47 Фонды ГМР, 8448/1 Д445-11Ш, стр. З.
48 Там же стр.
12.
287
Большая часть циркулярного письма была посвящена
конкретизации задач, методов и организационных форм «Антифашистской акции».
«Под знаком Антифашистской акции,— говорилось здесь, в частности,— партия
должна преодолеть определенную стагнацию, обнаружившуюся на последних выборах
(Пруссия и т. д.), ликвидировать главные слабости в своей работе, добиться нового
подъема» 49.
Приход к власти реакционного правительства Папена,
антирабочая направленность которого была выражена значительно сильнее, чем при
Брюнинге, и новая волна разнузданного фашистского террора, развязанная декретом
от 16 июня, создавали объективную основу для сплочения рабочих рядов. Единые
действия вызывались самими событиями, и некоторые местные организации
социал-демократии санкционировали их как единственный способ справиться с общим
врагом — обнаглевшими фашистами.
Усилившаяся тяга к единству не прошла незамеченной
правящими кругами и вызвала у них нескрываемую тревогу. «Проводятся собрания,
на которых обсуждаются методы сотрудничества рабочих партий,— говорилось в
полицейском документе, датированном 26 июня
Но руководство СДПГ ни в чем не изменило своей
позиции, хотя в связи со сменой правительства, знаменовавшей собой начало
нового этапа фашизации страны, существенно менялось положение самой
социал-демократии. Происходили сдвиги в социальной и политической опоре
буржуазии, и приход к власти правительства Папена означал отказ господствующих
клас-
-------------------------------------------
49 Фонды
ГМР, 8448/1 Д445—11Ш, стр. 10.
50 IML beim ZK, der
SED, Archiv, N 10/155, Bl. 140.
51 «Geschichte der dеutschen Arbeiterbewegung», Bd. 4, S. 584.
52 IML beim ZK der
SED, Archiv, N 10/155, Bl. 103.
288
сов от услуг социал-демократической партии даже в той
ограниченной форме, в какой они использовались Брюнингом. Для лидеров партии не
было секретом, что Папен, прокладывая дорогу гитлеровцам, готовит конец
долголетнему преобладанию СДПГ в прусской администрации; правительством Пруссии
управляли «сильные люди» партии — О. Браун и К. Зеверинг. Когда в 20-х числах
июня проходили выборы президиума прусского ландтага, коммунисты предложили СДПГ
(и партии Центра) не допустить избрания гитлеровцев; КПГ отказалась в то же
время от выдвижения собственных кандидатов 53, Сначала данное
предложение было обусловлено выполнением некоторых требований КПГ, затем и это
условие было снято. Тем не менее последовал отказ. На словах социал-демократия
выдавала себя за решительную и непримиримую противницу «правительства баронов».
Фракция СДПГ в рейхстаге объявила Папену «решительную борьбу со всеми
вытекающими отсюда парламентскими последствиями»54. Но на деле
лидеры партии не использовали те колоссальные возможности, которыми располагала
партия.
Руководство СДПГ, как и прежде, отрицательно
относилось к развертыванию забастовочной борьбы, к чему неустанно звала
коммунистическая партия. В прессе СДПГ, на собраниях и митингах, созывавшихся
ею, произносилось много правильных слов о страшных опасностях, которые несет с
собой фашизм, но в итоге, как правило, следовали лишь заверения, что «в свое
время» будет дан «решающий бой». Вот что говорилось, в частности, в передовой
статье центрального органа СДПГ «Форвертс» от 17 июля: «Мы хотели бы совершенно
спокойно и с полной определенностью заявить: в тот день, когда вооруженные
бандиты Гитлера получат «свободу действия», с ними будет покончено, и три дня
спустя в Германии не хватит щелей, куда бы могли спрятаться штурмовики и их
покровители. Если кто-либо в Германии вбил себе в голову, что организации
«Железного фронта» потерпят ликвидацию республиканской конституции, тот впадает
в опасную ошибку».
Подобные торжественные заверения вновь и вновь
повторялись, обнадеживая массы сторонников СДПГ и связанных с нею организаций.
Вот, например, слова главы «Рейхсбаннера» Гельтермана, которыми завершалось его
обращение по поводу создания «Железного фронта»: «Мы не желаем ни одного дня,
ни одного часа оставаться более в обороне — мы переходим в атаку! Нападение по
всему фронту! Сегодня мы призываем — завтра мы нанесем удар!»55
-----------------------------
53
«Правда», 22.VI.1932.
54 «Vorwarts», 1.VI 1932.
55 ЦПА
ИМЛ, ф. 215, оп. 1, ед. хр. 94.
289
А момент «решающего боя» между тем вновь и вновь
отодвигался. Лучшим же рецептом против фашистского террора, по мнению лидеров
социал-демократии, было... отсиживание дома. Так 9 июля, в день нацистского
митинга в берлинском Люстгартене, «Форвертс» напечатал воззвание руководства,
заканчивавшееся словами: «Не выходите на улицы! Закройте окна!» Нетрудно
понять, что эта тактика, воодушевлявшая фашистов на все более наглые
провокации, приносила огромный вред рабочему классу. Она вела к деморализации
сторонников социал-демократии, приучала их к бездействию, к постоянным
отступлениям, отнимала у них веру в возможность покончить с фашистской угрозой.
Самый большой ущерб партии и интересам пролетариата в
целом приносила упорная неприязнь социал-демократического руководства к
коммунистической партии, нежелание трезво взглянуть па создавшееся положение и
пересмотреть свою недальновидную политику в вопросе об едином фронте. Трудно
поверить, по после прихода Папена к власти лидеры СДПГ не ослабили, а,
наоборот, усилили свое сопротивление единству. 29 июня было опубликовано новое
решение Правления партии, которое категорически запрещало низовым организациям
какие-либо самостоятельные действия в деле установления единства. Так
реформистские лидеры воздвигли еще одно, и немаловажное, препятствие на пути к
сплочению трудящихся против наступающего фашизма56.
Отвергая сотрудничество с компартией, лидеры СДПГ
неустанно твердили, что предложения КПГ об единстве — только маневр. Лишь
изредка руководители СДПГ позволяли себе быть откровенными,— конечно, не в
листовках или ежедневных газетах. Такого рода «откровение» появилось, например,
в одном из журналов, издававшихся социал-демократической партией. Автор статьи
Э. Орднунг требовал вести «всеми пригодными
----------
56 Ответом
на беспрецедентное решение Правления СДПГ явилось циркулярное письмо
секретариата ЦК КПГ от 11 июля
290
средствами борьбу за души этих людей (коммунистов.— Л.
Г.)». Обеспокоенный усилившейся тягой к единению, Орднунг рекомендовал более
гибко и маневренно реагировать на предложения компартии, чтобы затруднить
разоблачение раскольнического характера политики заправил социал-демократии. Но
вряд ли могло быть более разительное подтверждение этому, чем сама статья Орднунга,
в конце которой прямо говорилось: «Не следует оставлять у наших сторонников
никаких иллюзий. Социалистическое рабочее движение в Германии будет
представлено только социал-демократией или его вообще не будет. Для длительного
существования двух рабочих партий в Германии лет места» 57.
Разумеется, не все лица, принадлежавшие к руководящему
ядру СДПГ, стояли на столь непримиримо антикоммунистических позициях: в
частности, склонны были к налаживанию связей с КПГ многие деятели местных
организаций партии, ближе стоявшие к рабочим массам. Сторонники единства
имелись и в высшем звене СДПГ; среди них были, к примеру, депутаты рейхстага О.
Бухвиц и О. Гротеволь. «Вопрос о совместных действиях, необходимость сплочения
всех сил пролетариата,— эта мысль владеет сегодня сердцами рабочих всех
направлений»,— говорил О. Гротеволь на съезде брауншвейгской организации СДПГ
(которую он возглавлял) в конце июня
Политическая обстановка в стране, и без того
напряженная, еще более обострялась началом предвыборной кампании. Для
большинства немцев это были уже четвертые выборы в течение одного полугодия;
они происходили в момент наибольшего упадка германской экономики, когда она
оказалась отброшенной на несколько десятилетий назад, а нищета народных масс
достигла предела мыслимого. Такого же предела, казалось, достигло и ожесточение
политической борьбы, далеко вышедшей за рамки словесных дискуссий и полемики.
Фашисты сделали массовым гангстеризм в политической жизни; они не только
превратили клевету и поношения в излюбленное орудие «идейной» борьбы, но и
ввели в практику физическую расправу с политическими противниками. Гитлеровцы
ставили себе целью срывать избира-
---------------------------------------
57 «Neue
Blatter fur den Sozialismus», 1932, N 7, S. 346.
58 ЦПА
ИМЛ, ф. 215, on. 1, ед. хр. 210.
291
тельные собрания и митинги других партий, в первую
очередь коммунистической; нападения на такие собрания осуществлялись
планомерно. Под давлением обстоятельств и не желая окончательно потерять
авторитет в глазах своих сторонников, командование «Рейхсбаннера» вынуждено
было вновь привести в состояние готовности свои боевые группы. Однако, как
показали ближайшие события, эта мера имела лишь показной характер.
Социал-демократическая партия отводила выборам — еще
более, чем обычно — центральное место в своей деятельности. В агитации СДПГ
избирательный бюллетень приобретал самодовлеющую роль, становился чуть ли не
единственным орудием, при помощи которого можно было отвести угрозу фашизма.
Иначе ставила вопрос коммунистическая партия, которая
боролась за завоевание максимального количества голосов, но в то же время
разъясняла массам, что судьбы страны решаются не в избирательных баталиях, а в
отпоре наступлению реакции повсюду, где она пытается наступать, прежде всего —
на производстве59. «Фашизм,— подчеркивал Э. Тельман в одном из своих
предвыборных выступлений, и эта мысль проходила красной нитью во всех
документах партии весной
Компартия развертывала подготовку к выборам под знаком
всемерного расширения сферы действия '«Антифашистской акции»61.
Одной из важнейших задач при этом было пробудить в трудящихся веру в свое
могущество. С 10 по 17 июля по всей стране проводилась «Боевая антифашистская
неделя», в ходе которой во многих городах состоялись митинги и демонстрации,
собиравшие нередко по нескольку десятков тысяч человек (так, в Вуппертале — 70
тыс.). Это наглядно свидетельствовало о решимости рабочих к борьбе против
натиска реакции.
«Возрождая в массах сознание своей силы и веру в
возможность победоносной борьбы против фашизма, которые в результате
разочарования шарлатанскими маневрами социал-демократии во многих случаях
уступили место определенным настроениям депрессии, мы одновременно создаем
важнейшую предпосылку успеха «Антифашистской акции»»,— говорилось в циркулярном
письме секретариата ЦК КПГ от 4 июня
------------
59 Фонды ГМР, 8751 Д445— 11П7.
60 «Rote Fahne», 14.VI
1932.
62 Фонды ГМР, 8448/1 Д445—11Ш, стр. 3.
292
Реакционный переворот в Пруссии
По мере приближения дня выборов борьба обострялась,
«Старые» буржуазные партии, чувствуя, что из-за конкуренции нацизма почва все
более уходит у них из-под ног и избиратели разбегаются, пытались сплотиться,
чтобы отстоять кое-какие позиции. Их программы становились все более
реакционными, и все они, включая самую «левую» — Государственную — партию,
высказывались за конституционную реформу, которая предусматривала бы введение
реакционной верхней палаты, ликвидацию всеобщего избирательного права и т. п.
Таким образом, под нажимом гитлеризма выветривались остатки буржуазного либерализма,
который и в прошлом был в Германии гораздо слабее, чем в некоторых других
европейских странах63.
В стороне от переговоров «старых» буржуазных партий
оставалась партия Центра, не видевшая нужды в объединении с теми, кто явно
терпел бедствие. Правда, и в предвыборных заявлениях правления Центра, и в
выступлениях его лидеров не было недостатка в призывах к единению буржуазного
лагеря, к созданию «сильного блока порядка». Один из идеологов Центра, прелат
Шрайбер, с возмущением опровергал высказывавшуюся социал-демократическими
лидерами идею, что в избирательной борьбе «на одной стороне находятся нацисты,
на другой социал-демократия и Центр... Мы будем вести борьбу и с теми, и с
другими» 64. А на деле Брюнинг, принимавший активное участие в
избирательной кампании, охотно напоминал о своем стремлении (в бытность
рейхсканцлером) достичь соглашения с «национальной оппозицией» и о практических
шагах, сделанных с этой целью 65.
Весьма характерно, что после отставки правительства
Брюнинга лидеры Центра стали создавать культ последнего; при этом они широко
пользовались терминологией, заимствованной у нацистов. «В Брюнинге,— писал,
например, прелат Шрайбер,— немецкая политика воплотилась в образе фюрера»66.
А на предвыборном митинге партии Центра в Нюрнберге Брюнинга назвали «наш дуче»
67.
------------
63 См. Б.
Г. Тартаковский. Буржуазные партии Веймарской республики и приход фашизма к
власти.— «Из истории Германия нового и новейшего времени». М., 1958, стр.
258—259.
64 G.
Schreiber. Bruning — Hitler — Schleicher, S. 55..
65 См., например, «Berliner Tageblatt», 4.VII 1932. Но и среди лидеров партии Центра были люди, понявшие
гибельность сговора с гитлеровцами. К ним принадлежал, в частности, бывший
рейхсканцлер Вирт. Выступая в те же дни, что и Брюнинг, он заявил: «Лучше
умереть, чем очутиться в рабстве у Гитлера» («Vorwarts», 12.VII 1932).
66 G. Schreiber. Bruning — Hitler —
Schleicher, S. 10. 12.
67 H. Schorr. Adam Stegerwald, Politiker der ersten
deutschen Republik. Recklinghausen, 1966, S. 246.
293
Правительство Папена чуть ли не с первого дня своего
существования готовило «операцию» в Пруссии. Ее цель заключалась не только в
овладении командными высотами этой земли, но и в прощупывании силы рабочего
класса, его готовности к отпору действиям реакции. Соответственно был выбран и
момент устранения законного прусского правительства: это должно было произойти
незадолго до выборов в рейхстаг, чтобы' как можно сильнее снизить число голосов
за рабочие партии и увеличить популярность тех, кто был инициатором вмешательства
в прусские дела — Национальной и гитлеровской партий. В па-чале июля обсуждение
правительством планов переворота в Пруссии приняло уже конкретные формы.
Вначале предметом «изучения» являлось финансовое положение Пруссии, которое,
как и во всех других землях, было тяжелым. Но от этого предлога для
вмешательства пришлось отказаться, ибо даже для тех, кто замышлял устранение
прусского правительства, он был малоубедителен 68.
Протоколы заседаний имперского правительства открывают
картину беспримерного по своему цинизму и разбойничьей откровенности сговора о
том, как наилучшим образом представить перед общественным мнением готовящийся
переворот. На заседании 13 июля царила растерянность, ибо накануне Зеверинг
опубликовал приказ о мерах по «поддержанию порядка», выбивший, как признал
министр внутренних дел Гайль, из рук имперского правительства повод для его
устранения69. Надо было искать новый предлог. Между тем прусские
власти делали все от них зависящее, чтобы не «прогневить» Папена.
16 июля Правление СДПГ заслушало сообщение Зеверинга и
обсудило вопрос, допустимо и желательно ли использование полиции,
поддерживаемой «Железным фронтом», в случае противозаконных шагов имперского
правительства и рейхсвера. Было принято единодушное решение «не оставлять правовых
основ конституции, что бы ни случилось»70. Уже это решение по
существу определило собой исход событий. Заправилы СДПГ, видимо, надеялись
«отсидеться», сильно недооценивая стремление Папена — Шлейхера овладеть
Пруссией, которую Зеверинг незадолго до того назвал «сильнейшим бастионом
республики». А когда буржуазные коллеги по правительству, предупреждавшие его о
готовящемся перевороте, стали настаивать на принятии мер для отпора, Зеверинг
отказал им. Министру финансов Клепперу он заявил, что находится в контакте с
Гайлем (это соответствовало действительности — Зеверинг сообщает в ме-
------------------
68 DZAP, Reichskanzlei, Kabinettssitzungen,
N 754, Bl. 790 380 u. a.
69 Ibid.,
Bl. 790 396—790 397; см. также: Тh. Vogelsang. Reichswehr, Staat
und
NSDAP, S. 474—475.
70 С Severing. Mein Lebensweg, Bd.
II. Koln, 1950, S. 347.
294
муарах, что он вел с Гайлем переговоры об объединении
прусского и имперского министерств внутренних дел) 71 и убежден в
том, что до дня выборов в рейхстаг, т. е. 31 июля, ничего не произойдет72.
Прусское правительство, боявшееся опереться на
народные массы, металось из одной крайности в другую. То оно рекламировало свою
решимость сопротивляться и устами своих членов (как правило, буржуазных)
заявляло, что «никогда не допустит назначения имперского комиссара», то
прикидывалось ничего не ведающим. Между тем о планах правительства Папена
газеты писали давно, а 17 июля (когда чрезвычайный декрет о перевороте в
Пруссии уже был подписан Гинденбургом, правда без определенного числа — его должен
был проставить сам Папен! 73) в печати появилось сообщение,
что оно вовсе не отказалось от плана назначения имперского комиссара для
Пруссии. Правительство чувствовало свою силу, и главным ее источником была
убежденность в бездействии руководства СДПГ, основанная на всей политике
последнего, на пассивности прусских властей.
По мере того как нарастал отпор гитлеровскому террору
и ширилась «Антифашистская акция», нацисты развертывали все более шумную
кампанию, обвиняя прусское правительство «в потворстве коммунистам». Это было
насквозь лживое обвинение: полиция в большинстве случаев потворствовала
фашистам. Последним, однако, нужна была полная «свобода рук»; они требовали
устранения прусского правительства — и именно до выборов. 24 июня девять видных
гитлеровцев с этой целью посетили Гайля, утверждая, будто правительство Пруссии
«не борется с коммунистами». Гайль согласился с этим и заявил, что если
Зеверинг не наведет порядка, то будут приняты меры74. А 17 июля
Гитлер направил из Кенигсберга, где нацисты организовали новые бесчинства,
телеграммы на имя Гинденбурга, Папена, Шлейхера и Гайля; он выражал возмущение
действиями прусской полиции и требовал, чтобы имперское правительство
немедленно «положило конец этому безответственному поведению» 75.
Договоренность о назначении правительственного
комиссара в Пруссию в случае, если нацисты не войдут в состав прусского
правительства, была достигнута во время беседы Шлейхера
---------
71 Ibid., s. 341.
72 «Ursachen und
Folgen vom deutschen Zusammenbruch 1918 und 1945», Bd 8 Berlin, 1962, S.
600—601; H. Kessler. Tagebucher 1918-1937, S. 690-691
73 DZAP, Buro des
Reichsprasidenten, N 76, Bl. 263.
74 DZAP, Reichsministerium des Innern, N 25706, Bl.
8—12.
75 J. Petrold. Der Staatsstreich vom 20. Juli
295
с Гитлером 4 июля. Окончательно же вопрос был решен во время их встречи 19 июля в Котбусе76.
По тому же поводу велась переписка между Папеном и президентом прусского
ландтага фашистом Керлем. 18 июля последний направил рейхсканцлеру пространное
послание, предложив «взять прусскую полицию в свои руки», используя для этого
48-ю статью конституции77. Но наиболее весомым было требование
«навести порядок» в Пруссии, исходившее от ряда крупнейших промышленников Рура,
в том числе Круппа и Бранди78.
Здесь необходимо сделать отступление в область, более
подходящую для авантюрного романа, чем для исторического исследования. Этот
сюжет связан с неким Рудольфом Дильсом, который в рассматриваемое время служил
в министерстве внутренних дел Пруссии в должности советника и занимался
изучением путей борьбы с фашистской опасностью. Он пользовался безусловным
доверием министра Зеверинга, участвовал в важных совещаниях и постоянно
находился в курсе того, чем жило министерство. В этом не было бы ничего
особенного, если бы не одна «деталь»: Дильс являлся не только —и не столько —
правительственным чиновником, сколько убежденным нацистом, приносившим
гитлеровской партии огромную пользу тем, что передавал информацию о намерениях
полиции. Не удивительно, что после своего прихода к власти нацисты назначили
Дильса начальником тайной полиции; именно этот выученик и доверенное лицо
Зеверинга был первым шефом гестапо, возглавляя его как раз в те месяцы, когда началась
кровавая расправа с десятками тысяч борцов за народное дело. Но в середине
Дильс сыграл зловещую роль в «прусском деле». От него
исходил донос, вызвавший подлинное ликование у членов правительства Папена. Согласно
сообщению Дильса, чиновник прусского министерства внутренних дел Абегг (член
Государствен-
--------------------------
76 W. Hoegner. Die verratene
Republik. Munchen, 1958, S. 313.
77 Deutsches
Zentralarchiv, Abt. Merseburg, Akte 169, D 111b, N 5, Bd, 5, Bl. 88—94.
78 E. Beck. The Death of the
Prussian Republic. Tallahassee, 1959, p. 100.
79 «Einheit», 1948, N
6, S. 563.
296
ной партии) имел беседу с коммунистами— депутатом
рейхстага Торглером и депутатом ландтага Каспером, в ходе которой обсуждались
возможности сотрудничества прусских властей и КПГ против фашизма. По словам
самого Абегга, речь шла, в частности, о возможности поддержки коммунистами
кандидатуры представителя СДПГ ,на пост министра-президента80. Мы не
располагаем документами об этой встрече; хорошо известно в то же время, что
прусское правительство упорно придерживалось антикоммунистического курса, а КПГ
в свою очередь резко и непримиримо разоблачала политику прусских властей,
продиктованную заботой об охране интересов буржуазии и помещиков. Если такая
встреча состоялась, то она, вероятно, была лишь плодом личной инициативы
Абегга, которого искренне заботила вплотную приближавшаяся фашистская
опасность. Сообщение Дильса противоречило всему, что было характерно для
правительства Брауна— Зеверинга за многие годы его пребывания у власти, и
потому безусловно нуждалось в серьезной проверке.
Но весь смысл доноса Дильса в том и заключался, что он
содержал искомое, и будь он даже трижды вымышлен, и тогда его никто не стал бы
ставить под сомнение и проверять. В донос сразу же «поверили» и превратили в
обвинительный документ. Что же касается самого Дильса, то его функции в
«операции» этим не ограничились. Как теперь известно из материалов
правительственного архива, 19 июля, т. е. накануне государственного переворота
в Пруссии, на .квартиру Дильса прибыли статс-секретарь рейхсканцлера Планк
(«человек» Шлейхера, приставленный им к Папену) и обер-бургомистр Эссена Брахт,
который должен был на следующий день заменить собой Зеверинга на посту министра
внутренних дел Пруссии81. «Двойник» Дильс информировал заговорщиков
и консультировал их, как надо действовать; он исходил из того, что вряд ли
следует опасаться со стороны Зеверинга сопротивления, какого ожидали от этого
деятеля, слывшего в течение многих лет «сильной личностью».
Между тем накал политической борьбы нарастал с каждым
днем. В воскресенье, 10 июля, по всей стране имели место сотни нападений
гитлеровцев на рабочие организации, предвыборные собрания, на отдельных
антифашистов. В . итоге лишь за один день в Германии 17 человек было убито и
191 тяжело ранен. Казалось, это максимум. Но следующее воскресенье, 17 июля,
было еще более кровопролитным. Число жертв фашистского разбоя превысило 300
человек, из них 18 было убито. Наиболее ожесточенные столкновения произошли в
рабочем приго-
------------------------------
80 H.-O. Meissner, W. Wilde. Die Machtergreifung, S, 279.
81 Th. Vogelsang. Reichswehr.
Staat und NSDAP, S. 237.
297
роде Гамбурга Альтоне, где гитлеровцам, откровенно
провоцировавшим пролетариев Гамбурга, вздумалось провести свою демонстрацию. Об
ответственности нацистов за случившееся недвусмысленно заявил обер-бургомистр
Гамбурга Петерсен, выступая 23 июля на совещании глав земель: «Все говорит
против национал-социалистов»82.
Усиленно охраняемые полицией, еще находившейся тогда
под командованием социал-демократа Эггерштедта, 5 тыс. штурмовиков двинулись в
кварталы, населенные беднотой. Их шествие напоминало карательную экспедицию.
Вскоре раздалась команда: «Стреляйте в красных собак!». Альтонские рабочие
немедленно организовали оборону; на улицах быстро выросли баррикады —как за
девять лет до того, во время героического гамбургского восстания,
возглавлявшегося коммунистической партией. Вот как описывала события
прогрессивная немецкая газета: «Город напоминал военную зону. Газы, бомбы,
ручные гранаты и броневики господствовали на улицах... Развернулась уличная
битва полиции, по существу объединившейся с национал-социалистами, против
коммунистов. Туда, где не закрывали по приказу полиции окна, полиция стреляла»83.
А на следующий день Эггерштедт опубликовал официальное
сообщение, пытаясь возложить вину за наглую вылазку фашистов на рабочих. «Речь
идет,— говорилось в этом позорном заявлении,—о тщательно подготовленном
нападении со стороны антифашистского объединения»84. В этом он был
вполне солидарен с самим Папеном, заявившим, что альтонские события, как и
другие столкновения, «вызваны провокациями и нападениями коммунистов со спины».
Можно понять, каково было возмущение рабочих, когда им приходилось сталкиваться
со столь наглой ложью, особенно если она исходила от людей, называвших себя
социалистами. «Кровь наших товарищей по классу,— говорилось в листовке,
выпущенной на следующий день гамбургской организацией КПГ,— обагрила улицы,
которые полиция, возглавляемая социал-демократом, очистила при помощи
шквального огня, чтобы дать место разбойничьей гвардии Гитлера»85.
Кровавые столкновения произошли 17 июля не только в
Пруссии, но и в остальных землях. Однако правительство Папе-
--------------------------------
82 «Papens «Preussenschlag» und
die Lander».— «Vierteljalirshefte fur Zeitgeschichte», 1970, H. 3, S. 327.
83 «Berliner Zeitung
am Mittag», 18.VII 1932.
84 См.
«Правда», 20.VII 1932. Бывший чиновник гамбургской полиции Даннер признает, что
большая часть жертв была результатом «бешеной стрельбы со стороны альтонской
полиции». Он пишет также о попытках добиться изменения маршрута нацистского
шествия, закончившихся неудачей из-за позиции гамбургского полицей-президиума
(L. Banner. Ordnungspolizei Hamburg. Hamburg, 1958, S. 235).
85 Фонды ГМР, 9138/4 Д445— 11A.
298
на, ожидавшее «удобного» повода, решило, что он
найден. Сразу же был введен запрет на любые демонстрации и уличные шествия.
«Таинственные» переговоры правительственного чиновника с коммунистами и мнимое
«потворство» коммунистам в Альтоне — таковы были прегрешения, которые 20 июля —
вдень, назначенный для государственного переворота,— решено было вменить в вину
прусским властям. Эти обвинения были хороши для инициаторов переворота тем, что
помогали разжигать антикоммунизм и тем самым запугать и одурманить обывателей.
В своем выступлении 20 июля по радио Папен не постеснялся назвать разбойничью
операцию, предпринятую его правительством в Пруссии и направленную в первую
очередь против социал-демократии и Центра — основной опоры смещенного кабинета
Брауна,— исключительно антикоммунистической акцией86. Это был один
из ранних случаев применения жульнического приема, которым в дальнейшем так
широко и беззастенчиво пользовались гитлеровцы, маскируя свои замыслы.
Наступило 20 июля
----------------
86 «Ursachen und
Folgen vom deutschen Zusammenbruch 1918 und 1945. Bd. VIII. S. 575—576. Теперь же Папен и некоторые буржуазные историки лживо
утверждают, будто переворот 20 июля имел целью... предотвратить переход власти
в Пруссии к гитлеровцам (F. Рареп. Dеr Wahrheit eine Gassе. Innsbruck, 1952, S.
216; W. Gorlitz, H. Quint. Adolf Hitler. London, 1964, S. 345—346).
87 «Zur Geschichte
des «Preussenschlages» am 20. Juli 1932».— «Vierteljahrshefte fur Zeitgeschichte»,
1961, H. 4, S. 436. Упоминавшееся выше
пожелание крупнейших представителей тяжелой промышленности (оно было 16 июля
сообщено членам правительства) предусматривало введение осадного положения на
территории всей Германии («Die Weimarer Republik. Ihre Geschichte in Texten,
Bildern und Dokumenten». Munchen — Wien— Basel, 1965, S. 363).
299
запрещал подобное «подстрекательство», угрожая
каторгой88. Нацисты также считались с большой вероятностью
немедленного объявления всеобщей стачки, что видно из выступления Гитлера в
Гамбурге в день переворота89.
Утром 20 июля три прусских министра были приглашены в
рейхсканцелярию, где Папен сообщил им содержание чрезвычайного декрета
президента о смещении Брауна и Зеверинга со своих постов и назначении его,
Папена, имперским комиссаром Пруссии. Как свидетельствует протокол этой беседы,
Зеверинг был очень спокоен. Он лишь заметил, что человек «в течение восьми лет
связанный с жизнью полиции, могущий положиться на чиновников своего ведомства
(он имел в виду самого себя.— Л. Г.), гораздо больше отвечает запросам
нынешнего тяжелого времени, чем новое лицо».
Итак, Зеверинг недвусмысленно напрашивался в
сотрудники папеновской клики, хотя ему грубо показывали на дверь. И лишь для
отвода глаз он заявил, что «уступит только силе»90. Это была
недостойная комедия, ибо в тот же день Зеверинг посоветовал полицей-президенту
Берлина, своему коллеге по партии Гржезинскому, без всякого сопротивления
уступить свою должность91. В действительности Зеверинг договорился с
Брахтом (об этом сообщил после войны Абегг), что он передаст ему свой пост, но
чтобы не привлекать особого внимания — лишь в вечернее время92. И
когда в кабинете Зеверинга появился Брахт в сопровождении одного офицера и двух
солдат (!), «сильная личность» бесшумно освободила место. По словам Брахта,
доложившего об этом на заседании имперского правительства, Зеверинг принял его
сердечно и они быстро достигли соглашения93. Не менее сговорчив был
и Гржезинский, любезно представивший своего незаконного преемника Мельхера
персоналу полицей-президиума и лишь резервировавший за собой право изучить
происшедшие перемены с правовой точки зрения.
Единственно, чем смещенные деятели были искренне
возмущены, так это обвинением в потворстве коммунизму: в подобном
«преступлении» они действительно были неповинны. И они громко кричали о
допущенной «несправедливости», всячески рекламируя свои заслуги в борьбе против
коммунистической партии. Так, выступая в имперском суде при обсуждении жалобы
бывшего прусского правительства, представитель последнего заявил: «В
действительности именно Зеверинг и Гржезинский..
-----------------------
88 «Vorwarts», 22.VII 1932.
89 «См. «Das freie Wort»,
1932, N 31. S. 3.
90 «Vierteljahrshefte
fur Zeitgeschichte», 1961, H. 4, S. 437.
91 A. Grzesinski. La tragi-comedie de
la republique allemande. Paris, 1934, p. 226.
92 «Deutsche
Rundschau», 1947, N 8, S. 137.
93 E. Beck. The Death of the
Prussian Republic, p. 102.
300
всегда сурово подавляли выступления коммунистов, и
потому они принадлежали к числу самых ненавистных для коммунистов лиц»94.
Еще более активно стремились социал-демократические заправилы отмежеваться от
обвинения в сближении с коммунистической партией. «Все утверждения о каком-то
сотрудничестве социал-демократии с коммунистической партией являются чистым вымыслом»,—
писал «Форвертс» в передовой статье на следующий день после переворота.
Еще 17 июля центральный орган СДПГ, увещевая рабочих
не прислушиваться к призывам КПГ о развертывании стачечной борьбы, заявлял: «Мы
не позволим вспышкопускателям затупить это последнее, решающее оружие
пролетариата. Вопрос о том, следует ли его применить и когда, решают только
ответственные организации. Если возникнет угроза основным, жизненным правам
рабочего класса, они без колебания нанесут удар всей мощью наших организаций».
И вот такой момент наступил. Реакция решилась на беззастенчивое надругательство
над конституционными правами народных масс, чтобы захватить позицию, владея
которой можно было значительно ускорить ликвидацию буржуазно-демократического
строя в Германии. Но руководство социал-демократии не приняло вызова и
отступило без боя, что имело печальные последствия для исхода всей напряженной
политической борьбы тех лет.
В течение всего дня 20 июля Правление
социал-демократической партии распространяло листовки, призывавшие к
«благоразумию», «дисциплине», а главное, к неучастию в политических
забастовках, пропагандируемых «неуполномоченными на то лицами». Такого же рода
листовки издавались и от имени руководства реформистских профсоюзов (лидеры СДПГ даже пытались позднее
переложить вину за случившееся на профдеятелей, но между теми и другими не было
в данном вопросе ровно никаких разногласий) и «Железного фронта». Все они
рекомендовали ответить на события в Пруссии... активностью в избирательной
борьбе, чтобы 31 июля добиться максимального числа голосов за
социал-демократию. И вновь, как будто ничего не произошло, Правление СДПГ
твердило —теперь это звучало скорей как насмешка над легковерными
последователями—что германский рабочий класс никому не позволит «предписывать
себе выбор средств и момента действия»95. Но лидеры СДПГ и профсоюзов не могли
заблуждаться насчет того, что их политика находится в кричащем противоречии с
настроениями и волей масс.
Многочисленные воспоминания рисуют трагическую картину
гибели надежд сотен тысяч людей, породившей у них опасней-
-------------------
94 «Preussen contra
Reich vor dem Staatsgerichtshof». Berlin, 1933, S. 22.
95 «Abend», 21.VII 1932.
301
ший скептицизм96. Города Германии представляли собой в тот день бурлящий
котел. Возмущение наглыми действиями правительства охватило всех классово
сознательных рабочих и требовало выхода. Возможности для отпора реакции были
как нельзя более благоприятными. Нужен был лишь призыв к борьбе. Он прозвучал в
обращении Коммунистической партии Германии, хотя она сразу же оказалась в
чрезвычайно сложных условиях: одновременно со смещением прусского правительства
были запрещены «Роте фане» (а ее помещение занято войсками) и другие важнейшие
издания КПГ. Тем не менее призыв ко всеобщей забастовке, с которым ЦК КПГ
обратился ко всем германским, рабочим, был отпечатан в виде листовки и
распространен, вопреки запрету военных властей, на многих предприятиях97.
В фондах Государственного музея революции в Москве
хранится еще одна листовка, изданная на следующий день после переворота.
«Рабочие и служащие,— говорится в этом небольшом листке, отпечатанном на
машинке,— после вчерашних событий нельзя больше откладывать отпор... Если мы,
пролетарии, не примем мер, в Германии воцарится фашизм... Поэтому каждое предприятие
должно бастовать. Ибо забастовка— наше сильнейшее оружие»98. Но в
условиях, когда лидеры СДПГ, пользовавшиеся влиянием на значительную часть
рабочего класса, активно противодействовали объявлению всеобщей забастовки,
усилия КПГ не принесли необходимого результата.
Обанкротившиеся социал-демократические политики
настойчиво утверждали, что сопротивление государственному перевороту было якобы
обречено на неудачу: и силы-де неравны, и уже «поздно» было давать отпор, и т.
п. Эти ухищрения, цель которых — оправдаться перед историей, использовал в
своих воспоминаниях Папен, считавший, что мнимая бесперспективность
сопротивления перевороту в какой-то мере может его обелить". И то и другое
грубо противоречит фактам, в том числе свидетельствам и документам, исходящим
не только от рядовых членов СДПГ, по и от ее функционеров, депутатов
рейхстага. Эти документы красноречиво говорят, что массы сторонников
социал-демократической партии были за объявление всеобщей забастовки и с
нетерпением ждали сигнала.
----------------------------------
96 См. W. Wimmer. Der Staatsstreich vom 20. Juli
1932 gegen die preussische Regierung Braun — Severing und seine Vorgeschichte, Bd. 1.
97 «Zur Geschichte der
Kommunistischen Partei Deutschlands. Eine Auswahl von Materialen und Dokumenten
aus den Jahren 1914—1946».
98 Фонды ГМР, 8613/8 Д445—11Ж.
99 F. Papen. Der Wahrheit eine
Gasse, S. 220.
302
Яркое описание трагедии, переживаемой рабочими
социал-демократами, готовыми к борьбе, но вынужденными бездействовать,
содержится в книге видного в прошлом деятеля СДПГ, а в послевоенные годы одного
из основателей Социалистической единой партии Германии, О. Бухвица 100.
О повсеместном стремлении к борьбе, которое особенно сильно проявлялось в
Саксонии, сообщает также правый социалист В, Хёгнер 101. Бывший
глава «Рейхсбаннера» в Брауншвейге О. Арнгольц подтверждает, что и в этой земле
рабочие были полны готовности участвовать во всеобщей забастовке. Но, как и во
многих 'других местах, оружия у рабочих не было — надеялись на полицию (хотя
здесь у власти находилось реакционнейшее правительство с участием гитлеровца) 102.
На улицах рабочих районов Берлина, особенно в
Веддинге и Нейкельне, велись бурные споры о создавшемся положении. В центре
всех дискуссий стоял вопрос о генеральной стачке. Вспоминали путч Каппа в
Берлинские рейхсбаннеровцы в полной боевой готовности
собрались 20 июля в условленных местах и пробыли там до утра следующего дня.
Весьма решительно были настроены студенты, входившие в «Академический легион»:
они заняли исходные позиции для штурма прусского министерства внутренних дел и
здания берлинского радио, т. е. объектов первостепенного значения. Но и они не
дождались сигнала к действию и вынуждены были вечером разойтись. Другой важный
факт известен из рассказа члена производственного совета предприятий,
снабжавших население Берлина электричеством, газом и водой. Имелась
договоренность, что по сигналу, означавшему начало всеобщей забастовки, будет
полностью прекращена подача электроэнергии, воды и газа столице. Но и эта
ключевая позиция не
--------------------------
100 О. Buchwitz. 50 Jahre Funktionar der deutschen Arbeiterbewegung. Berlin, 1958, S. 118—119.
101 W. Hogner. Der schwierige Aussenseiter. Munchen, 1959,
S. 63.
102 «Das Ende der
Parteien 1933». Dusseldorf, I960, S. 142; см. также: К. Rohe. Das Reichsbanner
Schwarz-Rot-Gold. Dusseldorf, 1966, S.
103 «Neues Deutschland», 15.IX 1951.
303
была использована, и между 8 и 9 часами вечера
рабочие, негодуя, покинули свои посты 104.
А вот что сообщают некие супруги Петровы, находившиеся
в это время в Берлине: «Распространялись слухи о том, что полиция мобилизована,
что она вооружает «Рейхсбаннер». Каждое мелкое подразделение «Рейхсбаннера»,
появлявшееся на улицах, привлекало внимание и давало повод для новых слухов...
Массы стояли ошеломленные, не в состоянии понять, что происходит. Что предпримет
Зеверинг? Ведь он наверняка имеет глубоко продуманный план? В страшном
возбуждении люди ждали собраний, которые должны были состояться вечером...
Повсюду можно было видеть приветственно поднятые вверх кулаки». Но и на
собраниях рабочие не услышали ни единого слова о всеобщей забастовке, о
мобилизации «Рейхсбаннера». «Только слова о порядке, о дисциплине. Такой музыки
они не ожидали»105. Авторы сообщают также, что рабочие крупных
предприятий Берлина тем не менее всю ночь ждали распоряжения о всеобщей
забастовке.
Соотношение сил было вовсе не так неблагополучно для
защитников демократии, как изображали заправилы СДПГ. Известно, например, что в
полицейских частях, находившихся в распоряжении прусского правительства,
насчитывалось около 20 тыс. человек. Это значительно превышало численность
войск, имевшихся 20 июля в Берлине; для использования же частей, расположенных
вне Берлина, военное министерство не приняло никаких мер 106.
Профсоюз железнодорожников изъявил готовность прервать сообщение, а это не только
помешало бы переброске войск, но и крайне стеснило бы маневренные возможности
правительства. Следовательно, все было за то, чтобы дать реакции открытый бой,
имея хорошие шансы на победу 107. .
Беспочвенность утверждений заправил СДПГ о
«бессмысленности» сопротивления папеновскому перевороту в Пруссии признают и
некоторые представители этой партии, и многие буржуазные историки.
Так, например, социал-демократ Г. Шютцингер пишет, что
бои полиции, рейхсбаннеровцев и членов профсоюзов (здесь намеренно пропущены
рабочие-коммунисты, а ведь именно они и могли бы решить дело), конечно,
потребовали бы несколько сот жертв; но это совсем не значит, что победили бы
войска. «Когда массы берлинцев затопили бы Унтер ден Линден, Вильгельмштрассе и
т. п., тогда, весьма вероятно, пришлось бы
---------------------
104 «Das Ende der Parteien 1933», S. 140.
106 P. and I. Petroff. The Secret of
Hitlers Victory. London, 1934, p. 78—80.
106 K. Schutzle. Reichswehr wider
die Nation. Berlin, !963, S. 169—170; В.
Мюллер. Я нашел подлинную родину. М., 1964, стр. 240.
107 См. A. Norden. Der 20. Juli 1932.—«Neues
Deutschland», 20.VII 1962.
304
убрать войска Рундштедта» 108. Из биографии
главы гессенского провинциального правительства социал-демократа Лeйшнера известно, что он не допускал возможности
эффективного использования рейхсвера против рабочих109. Того же
мнения придерживается уже упоминавшийся В. Хёгнер (после войны —
премьер-министр Баварии). «Возможно,— пишет он,— что жертвы, которых стоила
германскому народу вторая мировая война, стали бы излишними, если бы 20 июля
Даже полное поражение в открытой борьбе не было бы
тяжелее, чем психологические последствия бездеятельности,— таково мнение
западногерманского исследователя этих событий Э. Маттиаса 111.
В передовой статье вечернего издания «Форвертса» от 21
июля говорилось: «Пресса тех, кто стоит у власти, декламирует: «Берлин сохранил
спокойствие». Действительно, в Берлине было совершенно спокойно, но пусть они
не заблуждаются: они обязаны этим только благоразумию руководства
социал-демократии и ее хладнокровию, только достойной удивления дисциплине
берлинских рабочих. Иначе произошли бы события, последствия которых даже трудно
учесть»,— так заканчивается это саморазоблачение. Оно обнажает главную причину
отказа социал-демократических лидеров от борьбы: страх, что события могут в
конечном счете поколебать самые основы капиталистического строя 112,
чего эти лидеры не могли допустить.
Сам Рундштедт не преминул с похвалой отозваться о
политике СДПГ: «Нужно благодарить социал-демократическую партию за то, что она
не присоединилась к стачечному лозунгу, а наоборот, призвала к спокойствию и
благоразумию, дабы не помешать нормальным выборам»113. Осадное
положение не понадобилось не только в масштабе всей страны, но и в Берлине оно
оказалось, пожалуй, излишним. Столь безболезненного исхода своей
противозаконной акции не ожидали ни Папен, ни Шлейхер, ни их единомышленники 114.
-------------------------------
108 H. Schutzinger. Die
«Machtergreifung».— «Deutsche Rundschau», 1947, N 2, S. 101.
109 J. Leithauser. Wilhelm Leuschner.
Ein Leben fur die Republik. Koln, 1962, S.82.
110 W. Hogner. Der
schwierige Aussenseiter, S. 63. О возможности сопротивления пишет Э. Леммер,
являвшийся в то время заместителем руководителя «Рейхсбаннера»; по его словам,
последний был готов вместе с прусской полицией выступить против организаторов
переворота (Е. Lemmer. Manches war doch anders. Errinnerungen eines deutsches
Demokraten. Frankfurt a/M., 1968, S. 161).
111 «Vierteljahrhefte
fur Zeitgeschichte», 1956, H. 3, S. 257.
112 O. Braun. Von Weimar zu Hitler. New York, 1940, S. 410.
113 Цит. по: «Правда», 22.VII 1932.
114 «Vierteljahrshefte fur Zeitgeschichte»,
1961, H. 4, S. 431.
305
По-разному реагировала на переворот в Пруссии мировая
общественность. Если демократически настроенные круги разных стран были
охвачены глубокой тревогой за судьбы немецкого народа, то реакционеры, прежде
всего в США и Англии, не скрывали своего удовлетворения. На нью-йоркской бирже
наблюдался в те дни усиленный спрос на ценные бумаги. Это, как разъясняли
газеты, свидетельствовало о том, что банкиры, занимающиеся кредитованием
Германии, «весьма благожелательно оценивают резкий поворот в сторону диктатуры
в Германии»115. Лондонский «Тайме», комментируя июльские события,
восхищенно писал, что кабинет Папена показал себя «правительством, которое
правит... Его методы безусловно властны, но ведь абсолютно ни из чего не
следует, что Германии больше всего подходит либерально-парламентская
конституция»116.
Новая администрация в Пруссии в массовом порядке
увольняла чиновников социал-демократов. После Ноябрьской революции
представители СДПГ облюбовали сотни теплых местечек в государственном аппарате,
особенно в Пруссии, правительство которой все эти годы лишь с незначительными
перерывами возглавляли социал-демократы. Они являлись обер-президентами ряда
прусских провинций, бургомистрами многих городов, наконец, полицей-президентами
крупнейших центров, в числе которых, кроме Берлина, были Кёльн, Магдебург,
Ганновер, Франкфурт-на-Майне, Киль, Дортмунд, а за пределами Пруссии — Гамбург,
Лейпциг и др. Значительная часть этих служак была вскоре после 20 июля
устранена, что вызвало со стороны руководства и прессы СДПГ слезные жалобы и
все новые напоминания об услугах буржуазии со стороны уволенных за годы
«беспорочной службы». Кое-кто из чиновников-—членов СДПГ и дальше оставался на
своих пастах, например «кровавая собака» Носке, возглавлявший в
Свое возмущение и обиды смещенное прусское
правительство, выражая и чувства других уволенных государственных служащих,
изложило в жалобе, направленной в имперский суд в Лейпциге. С самого начала ни
для никого не было секретом, что подобная жалоба не принесет сколько-нибудь
действенного результата, ибо суд не пойдет против президента республики,
освятившего нарушение конституции своим авторитетом 117..Это
---------------------------
118 «New York Herald Tribune», 22.VII 1932.
116 «Times», 30.VII
1932.
117 Об этом говорилось в одной из листовок КПГ, выпущенных 20—21 июля (IML Archiv, Reichssicherheitshauptamt, N 3/506, Bl.
336).
306
подтвердилось уже через несколько дней, когда
имперский суд отказался удовлетворить требование правительства Брауна —
Зеверинга приостановить впредь до выяснения решения по существу действие чрезвычайного
закона о назначении имперского комиссара. Сам же процесс по этому делу был
отнесен на октябрь с тем, чтобы страсти, вызванные переворотом, улеглись и
вопрос потерял политическую остроту. Не помогло и сильное недовольство
действиями Папена в южно-германских государствах, особенно в Баварии и Бадене,
поддержавших жалобу и направивших в Лейпциг своих представителей. Имперское
правительство использовало против них нажим и угрозы в сочетании с
маневрированием, памятуя, что когда решался вопрос о легализации штурмовых и
охранных отрядов, правящие круги южно-германских земель не проявили стойкости и
пошли на компромисс.
Таким образом, «политика силы» восторжествовала. Не
менее, чем клика, осуществившая переворот, этому были рады гитлеровцы.
Нацистская партия ликовала по поводу «ликвидации ноябрьского господства в
Пруссии». «Начало сделано,—откровенно писал 21 июля «Фелькишер беобахтер»,— мы
же доведем это до конца. Необходимо освободить путь для национал-социалистского
движения и для взятия им власти». На совещании глав земельных правительств
нацисты Гранцов и Ревер, представлявшие соответственно Мекленбург-Шверин и
Ольденбург, решительно поддержали акцию Папена. Гранцов заявил, что «просит
правительство действовать и далее в том же духе», и в порядке саморекламы
уверял, будто трудности управления в коалиции с нацистами вовсе не велики 118.
В действительности гитлеровцы все более тяготились
связью с правительством Папена, ибо, не находясь у власти, они вынуждены были
делить ответственность за его политику. «Утверждать, что мы поддерживаем
правительство Папена и последний чрезвычайный декрет от 14 июня
--------------------------------------
118 Papens
«Preussenschlag» und die Lander.— «Vierteljahrshefte fur Zeitgeschichte», 1970,
H. 3, S. 330.
119 ЦПА ИМЛ, ф. 215, on. 1, ед. хр. 196. В дневнике
Геббельса за июнь — июль имеется немало панических записей на этот счет.
«Правительство приносит нам с каждым днем все больше вреда,— сказано, например,
в записи от 1 июля.— Можно почти по пальцам сосчитать, сколько миллионов
голосов мы потеряли, Ко всему «Клуб господ» распространил циркуляр, в котором
сообщается, что фюрер одобряет все мероприятия этого кабинета» (J. Gobbels. Vom
Kaiserhof zur Reichskanzlei, S. 121—122).
307
антисоциальны из всего, что можно себе представить» 120.
Полностью подтвердилось то, о чем предупреждала коммунистическая партия сразу
же после прихода Папена к власти: «Чем сильнее будет массовое движение против
правительства Папена, тем упорнее будут национал-социалисты пытаться отрицать
свое участие в его создании» 121.
Берлинский орган нацистов «Ангриф», рупор Геббельса,
выдвигая требование объявить мандаты КПГ в рейхстаге недействительными, писал,
что «вряд ли правительство Папена решится на это, хотя 20 июля показало, что
подобную меру можно провести без особого риска»122. Фашистская
газета в своем злорадстве сформулировала именно то, что было главным
политическим уроком удавшегося государственного переворота в Пруссии. В итоге
реакция почувствовала безнаказанность не только своих мелких и частичных
покушений на демократические свободы, которыми заполнена вся история Веймарской
республики, но и попытки одним махом ликвидировать чуть ли не все ее здание.
Этот вывод придал нацистам новые силы и энергию в борьбе за власть, укрепил их
претензии.
В литературе, посвященной истории Германии тех лет,
высказывается даже точка зрения, что 20 июля окончательно предопределило ход
дальнейших событий вплоть до установления фашистской диктатуры в январе
Успех реакционных сил окрылил фашистов на дальнейшее
усиление террора против политических противников. Кровавые столкновения —
результат гитлеровских провокаций — еще более участились. В самых разных
уголках Германии фашистские
--------------
120 Н Bennecke. Wirtschaftliche Depression und
politischer Radikalismus. Мunchen — Wien, 1968, S. 104.
121 Фонды ГМР, 8555/4 Б445—11П, стр. 8 (материалы КПГ для
докладчиков, июнь 1932).
122«Angriff», 1.VIII 1932.
123 См., например, K. Schwend. Bayern zwischen Monarchie und Diktatur. Munchen,
1954, S. 454; H. Schutzinger. Die «Machtergreifung», S. 100; E. Lemmer.
Manches war doch anders, S. 162.
308
бандиты жгли и убивали, практикуясь на собственном
народе в злодеяниях, которые они намеревались совершить в масштабах всей
Европы. Кровью обагрились в эти дни улицы старинного баварского города
Аугсбурга, пролетарского Дортмунда, Неймюнcтера, Ганновера, Бунцлау и многих других мест.
Усиливая террор, всемерно разнообразя и варьируя свою демагогическую
пропаганду, опираясь на активную поддержку правительства, Гитлер и его клика
надеялись получить на выборах в рейхстаг абсолютное большинство 124
Фашисты рассчитывали использовать деморализацию и
разочарование, охватившие часть приверженцев социал-демократии, и завоевать на
свою сторону значительные слои рабочего класса, чего до того времени им не
удавалось. Нацисты намеревались оторвать часть сторонников у коммунистической
партии, сыграв на поражении, понесенном германским пролетариатом 20 июля, и
получить на выборах от 17 до 20 млн. голосов125. По мысли фашистских
главарей и тех, кто ими руководил— тиссенов, кирдорфов и т. п., 31 июля должно
было стать днем триумфа гитлеровской партии, после чего Папену, как мавру,
сделавшему свое дело, следовало уйти, уступив место Гитлеру. И уже в августе
Удар, нанесенный 20 июля реакцией, сильнейшим образом
помешал избирательной пропаганде КПГ. Запрет многих ее изданий («Роте фане»
вышла только 28 июля), осадное положение в Берлине, массовые аресты и
разнузданный фашистский террор нарушали связи партии с массами, сковывали ее
деятельность. Но и в этих исключительно сложных условиях, находясь под угрозой
запрета, которого все громче требовали фашисты и их подголоски из других
реакционных организаций буржуазии, компартия продолжала вести огромную,
многогранную работу, принесшую свои плоды. Главную роль в борьбе против
реакционных сил играла «Антифашистская акция», охватившая сотни тысяч
трудящихся независимо от партийной принадлежности. Отряды самообороны,
возникшие под знаком «Антифашистской акции», после 20 июля не только не
ослабили, как ожидали гитлеровцы, отпора фашистскому террору, но, наоборот,
усилили его. В последние дни июля нацистские убийцы повсеместно наталкивались
на твердое сопротивление и вынуждены были в большинстве случаев бесславно
ретироваться из рабочих кварталов. Единство и сплоченность, на основе которых
строились отряды самообороны, обнаружили свою силу. Об этом ярко и страстно
говорил Э. Тельман, выступая накануне выборов на
---------------------
124 Е. von Schmidt-Pauli. Hitlers Kampf um die Macht. Berlin,
1933, S. 83.
125 E. Calic. Ohne
Maske. Hitler — Breiting Geheimgesprache 1931. Frankfurt a/M., 1968, S. 140.
309
грандиозном антифашистском митинге в берлинском
рабочем районе Нейкельн:
«В давние времена, когда враг вторгался на территорию
племени, на горах зажигали сигнал, означавший призыв сплоченно и единодушно,
смело и отважно выступить против неприятеля. Мы, коммунисты, тоже зажгли теперь
наш огонь, призывающий к революционному единству, к сплочению и действию. Это
—«Антифашистская акция». Э. Тельман вновь напомнил о необходимости неустанно
пробуждать в рабочем классе сознание его колоссальной силы, гигантской мощи,
которой он обладает вместе со всеми трудящимися 126.
С пламенными призывами крепить единство в борьбе
против реакции и фашизма обратились к собравшимся также В, Пик и В. Ульбрихт. В
воззвании, опубликованном 30 июля, за день до выборов, ЦК КПГ писал: «Ни на
один миг не забывайте события 20 июля..! Так же, как правящие круги не
остановились тогда перед нарушением конституции, она не остановит их от дальнейшего
осуществления планов установления фашистской диктатуры при помощи
внепарламентских средств грубого насилия».
Итоги выборов и противоречия в лагере реакции
Результаты выборов во многом не оправдали надежд
крайней реакции и вызвали разочарование нацистских главарей127.
Число голосов, собранных гитлеровцами,— почти 13 750 тыс.— было безусловно
очень велико, и опасность фашистской диктатуры отнюдь не уменьшилась. Но
нацистам не только не удалось завоевать абсолютное большинство — они не сумели
даже сколько-нибудь значительно расширить свое влияние по сравнению с апрелем
1932" г., когда состоялся второй тур президентских выборов. 31 июля
обнаружило приостановку роста гитлеровской партии; в некоторых же округах ее
влияние даже уменьшилось. Это имело место не только в ряде промышленных
центров, но и в слаборазвитом индустриально Мекленбурге, где нацисты, по
сравнению с выборами в ландтаг в начале июня, т. е. когда еще не обнаружилась
их тесная связь с «кабинетом баронов», понесли более или менее существенные
потери: в округе Шверин, число собранных ими голосов даже снизилось за это
время с 18966 до 13219128. Таким образом, возможности
----------------------
126 «Rote Fahne». 29.VII 1932.
127 М. Domarus. Hitlers Reden und
Proklamationen. 1932—1945. Kommentiert von einem deutschen Zeitgenossen, Bd. 1.
Munchen, 1965, S. 120.
128 R. Miller. Die Lage und der
Kampf der mecklenburgischen Landarbeiter und werktatigen Bauern unter Fuhrung
der Kommunistischen Partei Deutschlands gegen die Junkerherrschaft in der Jahren
1929 bis 1933. Rostock, 1955, S. 52.
310
расширения массовой базы фашизма были в основном
исчерпаны; гитлеровцам удалось почти целиком уничтожить срединные буржуазные
партии —Народную, Государственную, Хозяйственную и др. Если на выборах
Исключение составляли партии Центра и ее филиал
—Баварская народная партия, которые сумели даже несколько повысить число
полученных голосов и располагали в новом рейхстаге 97 местами (вместо 87 в
прошлом). Как уже отмечалось, это было результатом использования религиозных
верований и авторитета католической церкви, поколебать которые нацисты не
могли. Попытки гитлеровцев решительно вторгнуться в ряды рабочего класса и
перетянуть на свою сторону значительную часть его избирателей не увенчались
успехом, а это значило, что при сохранении организованного рабочего движения
фашисты достигли «потолка» в борьбе за голоса. Но подобная ситуация лишь
увеличивала их агрессивность, ибо каждый лишний месяц усиливал недовольство
приверженцев фашистской партии, большинство которых присоединилось к ней в
надежде на быстрое завоевание власти и могло с той же легкостью отколоться.
Заслуга в том, что фашисты не сумели завоевать
большого количества избирателей-рабочих, целиком принадлежала коммунистической
партии. «Удалось,—подчеркивалось в циркулярном письме секретариата ЦК КПГ,
посвященном итогам выборов,— отразить... вторжение фашистов в основную массу
пролетариата, слои рабочих коммунистов и социал-демократов, перехватить потери
СДПГ... Тем самым партия объяла своим влиянием примерно треть промышленного
пролетариата Германии и располагает приблизительно таким же числом
последователей из среды пролетариата, как и социал-демократия». Беззаветная
борьба КПГ против фашизма, против реакционного режима Папена, стремившегося
ликвидировать Веймарскую республику, увенчалась серьезным успехом. Партия
получила 5,3 млн. голосов — на 700 тыс. больше чем на предыдущих выборах. Это
свидетельствовало о том, что «партии удалось преодолеть временную изоляцию и
стагнацию, обнаружившиеся во время президентских выборов и выборов в прусский
ландтаг» 130.
Большую роль в успехах КПГ сыграла «Антифашистская
акция», показавшая всему рабочему классу, что партия упорно и эффективно
борется за боевое единство трудящихся. Завоеванные партией новые избиратели
прежде принадлежали в ос-
----------------------
129 S. Vietzke,
H. Wolgemuth. Deutschland und die deutsche Arbeiterbewegung in der Zeit
der Weimarer Republik 1919—1933. Berlin,
1966, S. 328—329.
130 Фонды
ГМР, 8630/1 Д445—11.Щ, стр. 1, 3.
311
новном СДПГ, потерявшей 600 тыс. с лишним голосов.
Около
100 тыс. человек, отдавших теперь голоса компартии,
вероятнее всего (во всяком случае частично) голосовали в прошлом за нацистов;
их уход из фашистского лагеря был результатом последовательного разоблачения
коммунистами гитлеровской партии как орудия монополистического капитала.
Избирательная победа компартии показала, что партия держит правильный курс на
всемерное развязывание выступлений широких масс трудящихся против фашизации
страны. Вместе с тем в цитировавшемся циркулярном письме обращалось внимание
партийных организаций, что на местах «и по сей день уповают на указания сверху
вместо того, чтобы самостоятельно реагировать на события и на мероприятия
буржуазии». Опасность этого с особенной отчетливостью выявилась 20 июля
А новая серьезная потеря голосов социал-демократией
была прямым следствием политики ее лидеров. Не помогла и «борьба» против
правительства, которая сводилась к словесной полемике, к хлестким речам
некоторых лидеров партии. Не было действительно важного и решающего —активных
действий, которые переросли бы в массовое движение с целью свержения
ненавистного трудящимся режима. Между тем от социал-демократии все еще зависело
немало. Несмотря на красноречивый опыт политики «меньшего зла», на капитуляцию
20 июля
Итоги выборов сильно изменили расстановку сил в
рейхстаге. Самой крупной фракцией впервые стала (вместо СДПГ) нацистская—230
человек. Вместе с 68 депутатами партии Центра гитлеровцы располагали теперь
абсолютным большинством. Переговоры между обеими партиями насчет образования
коалиционного правительства, прерванные на время подготовки к выборам, в
августе возобновились. Но, конечно, более предпочтительным для нацистов был
другой путь прихода к власти — непосредственный, в результате соглашения с
правящей верхушкой. Было весьма сомнительно, одобрил ли бы Гинденбург идею
коалиции нацистов с католиками: ее создание лишило бы президента и его
окружение ключевой позиции, которую они заняли в последние годы, оттеснив
парламент на второй план и сделав правительство целиком зависимым от воли
президента. Это и побудило гитлеровцев сразу же после выборов возобновить
контакты с правительством. Они вновь осуществлялись, через Шлейхера, который
имел в первых числах августа несколько встреч с Гитлером и его подручными. Это
были подготови-
----------------------------
131 Фонды
ГМР, 8630/1 Д445—11Щ, стр. 7.
тельные беседы к предстоявшим затем переговорам «на
высшем уровне» — между фашистским «фюрером» и Гинденбургом.
Задачей Шлейхера являлось установить, каковы претензии
нацистов, и попытаться сторговаться с ними. Правящие круги склонны были
предоставить гитлеровцам пост вице-канцлера и несколько министерских портфелей
в имперском правительстве. Но уже в ходе переговоров, которые вел Шлейхер,
выяснилось, что даже такой вариант Гитлера не устраивает; он вновь с еще
большим упорством, вызванным завоеванием 230 мандатов в рейхстаге, настаивал на
предоставлении нацистской партии всей полноты власти. Гитлер домогался помимо
поста канцлера, постов главы прусского правительства, имперского и прусского
министров внутренних дел, министра сельского хозяйства и министра пропаганды,
который нацисты намеревались учредить 132. Упорство главаря фашистов
объяснялось отнюдь не его целеустремленностью и последовательностью: дело было
в той настойчивости, с какой могущественная группировка монополистического
капитала, выступавшая за форсированную подготовку нового передела мира, рвалась
к власти. Тиссен, Кирдорф и их единомышленники стремились добиться ее, опираясь
на сколоченную гитлеризмом массовую базу и оттесняя конкурентов на второй план.
Но и группировка, державшая бразды правления, пока не
собиралась сдавать позиции. С точки зрения конечных целей между теми и другими,
конечно, существовало далеко идущее единомыслие; особенно по душе приверженцам
Папена были «идеи Гитлера в области социальных проблем» 133, иначе
говоря, планы ликвидации организованного рабочего движения со всеми вытекающими
отсюда последствиями. Но это не означало, что правящая клика намеревалась
передать всю власть гитлеровцам. 6 августа влиятельная «Франкфуртер цейтунг»
писала в передовой статье: «Их (нацистов.— Л. Г.) претензии на участие в
правительстве следует признать, но выдать им всю власть нельзя (и этого не
будет)».
Многие монополисты от всей души сочувствовали замыслам
гитлеровцев, но еще страшились последствий предоставления фашистам всей полноты
власти. К этому присоединялись соображения конкурентной борьбы. Гинденбург
придерживался мнения, что Папен и другие члены «кабинета баронов» могут достичь
тех же целей, даже с большим успехом, не уступая руководства нацистам, о
диктаторских поползновениях которых он был хорошо осведомлен. Очень интересна в
этом отношении книжка близкого к Папену журналиста В. Шотте, вышедшая из
-------------------------
132 J. Gobbels. Vom
Kaiserhof zur Reichskanzlei, S. 139.
133 F. Papen. Der Wahrheit eine
Gasse, S. 222.
313
печати ранней осенью
«Национал-социалистская партия при нынешней
конфигурации и ее идейном разладе непригодна к руководству,— писал Шотте.— Ее
идейное состояние пришло в расстройство более всего потому, что фюрер
рассматривал в качестве основной задачи вторжение в лагерь социал-демократии и
коммунизма. Ради этого он допустил беспрепятственное распространение
социалистических тенденций, проповедуемых Штрассером». Автор подчеркивал далее,
что на очереди — «реформа всей общественной жизни» (имелся в виду пересмотр
конституции с целью вытравить из нее все демократические положения). «Эта
задача не для национал-социалистской партии, не для гитлеров, штрассеров,
ремов, герингов, фриков и как их там еще зовут — личностей, которые,
несомненно, способны привести массы в действие, сконцентрировать их и
руководить ими морально (!), но которым не следует доверять политической
работы» 134.
Такая точка зрения довольно отчетливо проявилась в
ходе заседания правительства 10 августа, определившего тактику в дальнейших
переговорах с нацистами. Шлейхер сделал сообщение о своих встречах с Гитлером и
его позиции в вопросе о замещении поста рейхсканцлера. Хотя имеются документы,
в том числе написанные самим Шлейхером, из которых видно, что в то время он был
сторонником передачи Гитлеру поста главы правительства и собирался убедить в
том же Гинденбурга135, на заседании 10 августа Шлейхер высказался
против этого136. С возражениями выступил и ряд других министров, в
том числе Гайль, Нейрат, Шефер, Браун
Наибольший интерес представляет аргументация Гайля,
который, помимо соображений, связанных с влиянием подобного события на
экономику и на имперско-прусскую унию, столь недавно установленную
правительством Папена, коснулся того, что, пожалуй, было главным для правящей
верхушки. «Национал-социалисты объединяют только треть избирателей,— подчеркнул
он.—К тому же дело не только в избирателях, ибо среди них очень много
попутчиков... Организованный в СДПГ пролетариат вместе с коммунистами вряд ли
слабее... Если в Германии пришло бы к власти правительство, возглавляемое
национал-социалистами, то это вызвало бы ожесточенное сопротивление со стороны
левых. Коммунисты полностью перейдут к организации антифашистского фронта.
Результатом будет оже-
---------------------
134 W. Schotte. Das
Kabinett Papen — Schleicher — Gayl. Leipzig, 1932, S. 41—42.
136 E. Beck. The
Death of the Prussian Republic, p. 114.
314
сточенная борьба, сопровождаемая террористическими
актами еще невиданного размера» 137. Гайль опять предлагал роспуск
вновь избранного рейхстага, введение избирательного закона, повышающего
возраст, необходимый для получения права голоса 138, и — также в
нарушение конституции — отсрочку выборов на неопределенное время.
Несколько министров уже на этом этапе высказались за
предоставление Гитлеру поста рейхсканцлера. Наиболее активными адвокатами
нацистов проявили себя Брахт и Шверин-Крозигк, который цинично заявил: «Если
спросить себя, как можно вернее избежать гражданской войны — вовлечением
национал-социалистов или игнорированием их, при продолжении существования
штурмовых и охранных отрядов, то следует сказать, что правильнее сделать дикого
зверя лесничим, т. е. вовлечь национал-социалистов в правительство». Надо
отдать оратору должное: хотя его точка зрения и лишена какой-либо логики, но
зато она предельно откровенна в своей звериной реакционности и ненависти к
народу. Не случайно Шверин-Крозигк, ранее организационно не связанный с
гитлеровской партией, настолько пришелся нацистам по вкусу, что все 12 лет
фашистской диктатуры, независимо от всех перипетий, стоивших головы многим
представителям правящей верхушки, оставался министром гитлеровского
правительства. Но тогда, 10 августа, он был в меньшинстве. Преобладающим
оказалось мнение, что передача всего руководства национал-социалистам не может
быть предметом обсуждения.
Папен исходил из этого в своей беседе с Гитлером и
Фриком 12 августа. Он пробовал убедить Гитлера согласиться на пост
вице-канцлера и имперского комиссара Пруссии, а также передачу ряда других
министерств. Чуть ли не главным доводом Папена было при этом, что Гитлер не
сумеет далее, находясь в оппозиции, сохранить контроль над столь большой
партией139. Однако никакого соглашения достигнуто не было, и это
определило собой провал встречи фашистского главаря с президентом, назначенной
па следующий день. Гитлер прибыл на прием вместе с Герингом, со стороны же
правящих кругов, помимо самого Гинденбурга, в беседе участвовали Папен и
статс-секретарь президента Мейсснер. Беседа длилась недолго, ибо позиции сторон
уже были известны заранее.
На требование Гитлера Гинденбург ответил отказом,
заявив, что он «не может взять на себя ответственность перед богом, своей
совестью и отечеством, предоставив полноту государствен-
---------------------------
137 «Zur Politik
Schleichers gegenuber der NSDAP 1932».— «Vierteljahrschefte fur
Zeitgeschichte», 1958, H. 1, S. 95.
138 Проект
конституционной реформы предусматривал также введение множественного
избирательного права. («Frankfurter Zeitung», l.XI 1932).
315
ной власти одной партии, к тому же такой, которая
столь односторонне настроена по отношению к инакомыслящим». Он указал на такие
соображения, как опасения крупных беспорядков, отрицательной реакции за
границей и др. Гинденбург обратился к фашистскому «фюреру» с призывом вести
дальнейшую борьбу «рыцарски» (!). Пожимая ему на прощанье руку, Гинденбург
сказал: «Мы ведь старые товарищи и останемся ими, ибо позднее наши пути
все-таки могут встретиться»140. Это была не просто вежливость, а
убежденность, основанная на общности основных целей президента-милитариста и
фашистского претендента на власть.
Гитлер неустанно твердил, что стремится прийти к
власти легальным путем. Фашисты могли вполне рассчитывать на это, ибо
пользовались широкой свободой подрывной деятельности против республики. При
этом они еще издевались над республиканскими властями: как хорошо, что те
оплачивают деятельность депутатов нацистской партии в рейхстаге и ландтагах,
предоставляют им всевозможные льготы, бесплатный проезд по железным дорогам и
т. д. 141
Тем не менее фашистская верхушка {или определенная
часть ее), конечно, никогда всерьез не отказывалась устроить переворот, более
удачный вариант «пивного путча». Гитлеровцы располагали к тому времени
значительно более многочисленными военизированными отрядами и большим числом
сторонников вообще, а также прочными связями с рейхсвером. И в августе
--------------------------
140 DZAP, Buro des Reichsprasidenten, N 47, Bl. 183—184.
По некоторым сведениям, Гитлер требовал трехдневной свободы действий для
штурмовиков и эсэсовцев. На вопрос одного из участников переговоров, хочет ли
он повторения «казуса Маттеоти» (имеется в виду убийство итальянскими фашистами
депутата-социалиста в
141 В предисловии к книге Геббельса «Ангриф», вышедшей в
142 Е.
von Schmidt-Pauli. Hitlers Kampf um die Macht, S. 93. В
бумагах заместителя имперского комиссара Пруссии Брахта имеются письма,
направленные ему 6 и 9 августа О. Вельсом от имени СДПГ; в них содержатся
данные о готовившемся нацистском путче, документы, подтверждающие намерения
гитлеровцев совершить «поход на Берлин» (DZAP, Nachlass F. Bracht, Bd. 2, S. 57—61).
316
в эти дни корреспонденту английской газеты «Дейли
экспресс» Делмеру командующий штурмовыми отрядами Рем. А 12 августа о том же
говорил в присутствии Делмера заместитель Рема Арним, обращаясь к штурмовикам,
собранным близ Берлина для военного обучения. По словам Делмера, там находились
и инструкторы рейхсвера 143.
Однако несмотря на то, что Гитлер ушел от Гинденбурга
ни с чем, путч так и не состоялся. Причиной этого, вероятно, был вывод о
неблагоприятном соотношений сил, к которому пришли гитлеровские главари. Они
умерили пыл Рема и его сторонников, ибо существовали серьезные опасения, что
командование рейхсвера, в целом сочувствовавшее нацистам, тем не менее (как и в
Исход переговоров 12—13 августа свидетельствовал, что
противоречия в буржуазном лагере не только не смягчаются, но как будто даже
обостряются. Шла ожесточенная конкурентная борьба между различными
группировками монополистов; у значительной части их не был преодолен страх
перед рабочим классом и возможностью гражданской войны. Не было полного
единства в правящем лагере и по вопросу о дальнейшей стратегии германского
империализма — продолжать политику соглашения с западными державами или перейти
к форсированной подготовке реванша. Именно эти противоречия имел прежде всего в
виду Г. Димитров, делая в докладе на VII конгрессе Коммунистического
Интернационала вывод, что «фашизм приходит обыкновенно к власти во взаимной,
подчас острой борьбе со старыми буржуазными партиями или с определенной частью
их, в борьбе даже в самом фашистском лагере»145.
Но это отнюдь не значило, что между Гинденбургом и
Гитлером существует принципиальное различие, что соглашение между ними
исключено. А именно так после 13 августа ставили вопрос социал-демократические
лидеры, объявившие результаты переговоров президента с нацистами «возвратом к
справедливости и праву» 146. На самом деле, как подчеркивала
коммуни-
-----------------------
143 S. Delmer. Trail Sinister. An Autobiography,
vol. 1. London, 1961, p. 166.
144 Th. Vogelsang, Reichswehr, Staat und NSDAP, S. 481.
146
«Vorwarts», 14.VIII 1932. Характерно, что листовка КПГ, в которой говорилось о
нацистских планах похода на Берлин, была конфискована полицией (IML, Archiv, Polizeiprasidium Berlin,
N 22/97, Bd. 1).
317
стическая пресса, включение нацистов в правительство
вовсе не снято с повестки дня, а лишь отложено. Углубление классовых
противоречий будет толкать буржуазию к тому, чтобы привлечь фашистов к
управлению государственными делами. «Для пролетариата,— писала «Роте фане» 14
августа,— такое развитие событий создает не меньшие опасности, чем если бы
Гитлеру был уже поручен пост канцлера». Необходима была неусыпная бдительность
ко всем проискам реакции. На поверхности можно было рассмотреть только
ожесточенную полемику между обеими группировками буржуазии, принимавшую подчас
грубые формы; а за кулисами продолжались встречи и зондажи, посредником в
которых, как и прежде, выступало военное министерство.
Надежды на «смягчение» политической борьбы,
высказанные Гинденбургам в связи с легализацией штурмовых отрядов, не только не
оправдались: фашистский террор все усиливался. Не прекратили кровавых
столкновений и события 20 июля в Пруссии. Фашисты учинили 1 августа страшные
бесчинства в Кенигсберге, где они разрушили несколько рабочих клубов, убили или
тяжело ранили многих активистов рабочих партий. Такие же события произошли в
Брауншвейге (где гитлеровцы натолкнулись на объединенный отпор коммунистов и
рейхсбаннеровцев) и ряде городов Приморской области. Кровавые преступления
фашистов и ожесточенные столкновения, вызванные ими, продолжались и в
последующие дни — в Карлсруэ, Крефельде, в силезских и восточно-прусских
городах 147.
Архивные документы показывают, что эти бесчинства
носили планомерный характер и осуществлялись по директивам высшего руководства148.
Любопытно, что правительство Папена направило в Кенигсберг для «расследования»
уже известного нам пронациста Дильса.
Размах, который приняла вооруженная борьба фашистского
и демократического лагерей —и именно после смещения прусского правительства,
обвиненного в «неспособности обеспечить порядок»,— побудил Папена к более
активным действиям. 9 августа был опубликован декрет об учреждении чрезвычайных
судов и введении смертной казни за убийство, совершенное по политическим
соображениям. Кроме Берлина, такие суды были созданы в Кенигсберге и Эльбинге
(Восточная Пруссия), Киле, Бреслау, Дюссельдорфе и Гамме. С самого начала не
было никаких сомнений, что острие вновь учрежденных карательных органов будет
обращено преимущественно против коммунистов, которых власти в полном единодушии
с гитлеровцами лживо
-----------------------
147 «Правда», 2, 5.VIII 1932.
148 Н. Bennecke. Hitler und die SA. Munchen, 1962, S.
194.
318
объявляли виновниками столкновений, а также против
социал-демократов 149.
Но распоясавшиеся фашисты поставили правительство в
щекотливое положение. В ночь с 9 на 10 августа они совершили гнусное и подлое
злодеяние. Местом преступления опять стала Восточная Пруссия, где классовые
противоречия тесно переплетались с национальными, а ненависть фашистов к
демократам дополнялась звериной враждой к славянам и ко всему славянскому. И
объектом зверского убийства не случайно явился поляк по национальности,
коммунист и один из рабочих активистов городка Потемпа, Конрад Питцух. Как
свидетельствуют документы, преступление было обдумано заранее: оно произошло не
в пылу уличной схватки, а ночью в доме Питцуха, куда фашистские бандиты прибыли
из другого города на грузовике. В дом ввалилось пятеро штурмовиков, которые
набросились на спящего и в присутствии его старухи-матери и младшего брата
зверски растерзали свою жертву 150. Даже для привыкшего уже ко
многому германского общественного мнения это преступление фашистов оказалось
недопустимым. Требования жестоко покарать убийц исходили не только от рабочих
организаций, но и от некоторых деятелей буржуазии, понимавших всю глубину опасности,
которую обнажило это убийство, а еще более— его полное и безоговорочное
одобрение фашистской верхушкой.
Когда чрезвычайный суд приговорил убийц к смертной
казни, Гитлер, а вслед за ним Геринг послали им телеграммы, в которых славили
фашистских ублюдков как «героев» и заверяли в своей решимости помешать
исполнению приговора. Гитлеровцы, обозленные неблагоприятным исходом
переговоров о вступлении в правительство, избрали это событие для
демагогических нападок на «кабинет баронов», который они еще совсем недавно
активно поддерживали. Теперь они обвиняли Папена и Шлейхера в том, что те
преследуют нацистскую партию; в то же время оказывали нажим на Гинденбурга,
требуя смягчения наказаний. Фашистский «теоретик» А. Розенберг, оправдывая
любое преступление своих единомышленников, писал 26 августа в «Фелькишер
беобахтер», что для нацизма «одна душа не равноценна другой душе, один человек
не равноценен другому». В правительственных же кругах все громче раздавались
голоса в пользу амнистии нацистским бандитам, как «политической необходимости».
Такую же точку зрения высказал вскоре Гинденбург, и свершилось одно из
позорнейших
---------------------------------
149 E. von
Schmidt-Pauli. Hitlers Kampf urn die Macht, S. 97.
150 «Der Fall
Potempa».— «Vierteljahrshefte fur Zeitgeschichte»,
1957, H. 3; T. Potemski, Z. Sztaba. Sprawa Konrada Piecucha. Reportaz
historyczny.
319
для германской буржуазии событий; помилование худших из
худших уголовных преступников. Весь этот эпизод необычайно ярко показал и то,
что ждало Германию в случае победы нацистов, и глубину падения господствующих
классов Германии. А в то же самое время чрезвычайные суды чинили расправу над
рабочими, взявшимися за оружие, чтобы уберечь свои организации, себя и свои
семьи от фашистских вандалов. Так, группа рейхсбаннеровцев и коммунистов,
подвергшихся нападению нацистов в Олау, была приговорена в общей сложности к 9
годам каторги и 21 году тюремного заключения; этот вердикт был воспринят
рабочими как чудовищная несправедливость. Берлинский чрезвычайный суд в первом
же рассмотренном им деле, касавшемся столкновения между нацистами и рабочими,
приговорил беспартийного рабочего Шмидтке к 10 годам каторги; фашист,
привлеченный по тому же делу, был оправдан. В Брауншвейге, где вооруженные стычки
фашистов с коммунистами и социал-демократами носили особенно упорный характер,
было осуждено 29 членов «Рейхсбаннера» за то, что они оборонялись от нападения
фашистских убийц. Хотя жертвой столкновения стал рейхсбаннеровец, ни один
фашист не был привлечен к ответственности. Лишь за время с 15 по 20 августа
Новый рейхстаг должен был собраться на свое первое
заседание, посвященное избранию руководящих органов, 30 августа. В течение
всего месяца, особенно во второй его половине, происходили закулисные
переговоры буржуазных партий, имевшие целью прояснить политическое положение,
решить вопрос о том, кто и как будет осуществлять руководство государством.
Несмотря на противоправительственную шумиху в прессе и на митингах гитлеровской
партии, 29 августа Папен и Шлейхер встретились на частной квартире с Гитлером 152;
но каких-либо существенных результатов эта беседа не принесла, ибо позиции
сторон не изменились по сравнению с теми, какие они занимали 13 августа.
Одновременно, и еще более интенсивно, шли переговоры фашистов и партии Центра,
предметом которых было сформирование правительства и в Пруссии, и в империи.
Решение об этом правление Центра приняло сразу же после выборов, 2 августа153.
А несколькими днями позже заместитель председателя партии Иоос писал
католическому епископу
------------------------
151 «Правда», 24, 25, 26.VIII 1932.
152 J. Gobbels. Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei, S. 152.
153 «Das Ende der
Parteien 1933», S. 316. В переговорах с
нацистами активно участвовал Брюнинг, встречавшийся с Гитлером, Герингом и др.
Была достигнута договоренность о совместной программе (H. Bruning.
Memoiren 1918-1934, S. 624—625).
320
графу Галену: «Ни у нас, ни в Баварской народной
партии нет ни малейшего сомнения в необходимости привлечь национал-социалистов
к участию в правительстве. Я опасаюсь, что они будут упираться. Надо создать в
стране такое общественное мнение, которое сделало бы невозможным для них
уклониться от доли ответственности» 154.
Деятели Центра оказались, таким образом., в
соответствии с пословицей, особенно уместной здесь, еще более католиками, чем
сам папа римский, т. е. — гитлеровцы. Уже в середине августа прессу облетело
известие, что католические политики, очень любившие выдавать себя за
«убежденных противников нацизма», согласились предоставить нацистам посты
прусского премьер-министра и министра внутренних дел, что, как мы знаем, отдало
бы в руки фашистов полицию крупнейшей германской земли (включая столицу) 155.
Руководство Центра готово было также уступить гитлеровцам и пост рейхсканцлера,
если они будут, как обещают(!), править согласно конституции156.
Один из видных деятелей Центра, глава правительства Вюртемберга Больц, в ходе
этих переговоров впервые лично встретившийся с Гитлером, писал: «Мое
впечатление от Гитлера лучше, чем я предполагал. Его высказывания были
последовательны и ясны, а его точки зрения нередко совпадают с нашими» 157.
Остается добавить, что Больц, помогавший привести гитлеровцев к власти, был
позднее казнен своими «единомышленниками», когда увидел, к чему они привели
Германию, и попытался оказать сопротивление. Такова была судьба целого ряда
деятелей прежних буржуазных партий и социал-демократии.
----------------
154 «Das Ende der
Parteien 1933», S. 424.
155 «Правда», 19.V1II 1932; см. также «Berliner Tageblatt», 20.X 1932.
156 D. Junker. Die deutsche
Zentrumspartei und Hitler. 1932/33. Stuttgart, 1969, S. 95 ff.
321
ПЕРЕЛОМ В ХОДЕ
КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ
Сентябрьский
чрезвычайный декрет и подъем забастовочного движения
По мере приближения дня, когда должен был собраться
рейхстаг, перед правительством все острее вставал вопрос о дальнейшей политике.
Окончательный переход нацистов в оппозицию сразу выявил факт, раньше
завуалированный майским соглашением с ними. Папен и его министры опирались
только на Национальную, Народную и еще две-три партии, которые в общей
сложности располагали не более 10% мест в рейхстаге. Папен, таким образом, имел
против себя почти весь парламент, и не было сомнений, что он получит вотум
недоверия при первом же голосовании. Но недаром Гинденбург и его окружение в
течение ряда лет стремились свести значение парламента на нет. Дни нового
рейхстага были сочтены, и его роспуск предрешен.
Предметом обсуждения являлась лишь тактика, которой
следовало придерживаться после роспуска,— проводить ли новые выборы в
предусмотренный конституцией срок (не позднее двух месяцев) или пойти на новое
(еще более грубое) нарушение конституции, совсем не назначая выборов, либо
произвольно отодвинув их дату. Активным пропагандистом подобных планов был
министр внутренних дел Гайль, чьей обязанностью было охранять конституцию. Он
предлагал вообще покончить с узаконенной системой, которая не могла принести
«правительству баронов» большинства, и, повысив при помощи чрезвычайного
декрета минимальный возраст для участия в выборах, созвать Национальное
собрание для пересмотра конституции. 30 августа во время приема главных
деятелей правительства — Папена, Шлейхера и Гайля — президент, как видно из
документов, согласился в принципе на осуществление такого рода планов.
Гинденбург согласился также подписать декрет о роспуске рейхстага: на этот раз
уже не только дата должна была быть
322
проставлена позднее, но и обоснование роспуска (!).
Условились, что оно будет согласовано с президентом по телефону 1.
В Нейдеке шла речь и о предстоящем в ближайшие
дни опубликовании нового чрезвычайного декрета, который широковещательно
именовался «экономической программой правительства» и обсуждался на последних
заседаниях кабинета. Главное же —об этом свидетельствуют архивные документы —
проект «согласовывался» в беседах с владыками монополистического капитала, в
том числе с Круппом, Сименсом, Бошем и др.2 Разрабатывавшийся в
подобных условиях декрет должен был стать дальнейшим шагом в снижении
жизненного уровня трудящихся масс; кроме того, Папен еще более решительно, чем
Брюнинг, ввел в свою программу прямое субсидирование капиталистов под видом
поощрения расширения производства.
В целом программа правительства Папена, хотя она и
продолжала чрезвычайные декреты Брюнинга, впервые заменившие собой «нормальное»
законодательство, выходила далеко за рамки того, чего германская буржуазия
добилась при предыдущем кабинете. Недаром рупор тяжелой промышленности «Дейче
бергверксцейтунг», ознакомившись с проектом экономических мероприятий Папена, с
удовлетворением писал 29 августа: «Вот та политика, за которую мы неустанно
боролись в течение многих лет». О том, что это за политика, говорилось уже не
раз. Приведем для иллюстрации лишь еще одно высказывание крупного банкира (имя
его неизвестно, но сказать так мог, вероятно, каждый из финансовых магнатов):
«Надо довести дело до того, чтобы рабочие были готовы трудиться за тарелку супа
— тогда положение изменится к лучшему»3.
К этому вряд ли можно что-либо добавить; здесь в
максимально сжатой форме нашла выражение сокровенная мысль германского крупного
капитала. Тем более кощунственной была фраза, вставленная в коммюнике о приеме
Гинденбургом Папена и других 30 августа и гласившая, что президент «поручает
правительству особенно позаботиться об обеспечении жизненного уровня рабочего
класса и гарантировании социальной идеи». Автором этого добавления являлся
.генерал Шлейхер4.
Чрезвычайный декрет был опубликован в начале сентября,
во время паузы между первым и вторым заседанием рейхстага. Открытие парламента
30 августа
--------------------------
1 W.
Hubatsch. Hindenburg und der Staat. Gottingen, 1966, S. 340—342; см. G. R. Treviranus. Das Ende von Weimar.
Dusseldorf — Wien, 1968, S. 388.
2 DZAP, Buro des
Reichsprasidenten, N 56, BI. 212.
3 O. Meyer. Von
Bismark zu Hitler. New York, 1944, S. 176
4 W. Hubatsch. Hindenburg
und der Staat, S. 343.
323
![]() жуазная пресса во главе с фашистами начала
разнузданную травлю старейшей германской революционерки-коммунистки, пытаясь
запугать ее. Но К- Цеткин не побоялась угроз и, превозмогая болезнь, выполнила
свой долг. Стоя лицом к лицу с фашистами, она произнесла мужественную речь, в
которой обрисовала положение в стране и выразила глубокую убежденность в победе
революционных сил над фашистским варварством и одичанием.
жуазная пресса во главе с фашистами начала
разнузданную травлю старейшей германской революционерки-коммунистки, пытаясь
запугать ее. Но К- Цеткин не побоялась угроз и, превозмогая болезнь, выполнила
свой долг. Стоя лицом к лицу с фашистами, она произнесла мужественную речь, в
которой обрисовала положение в стране и выразила глубокую убежденность в победе
революционных сил над фашистским варварством и одичанием.
К. Цеткин призвала к свержению антинародного
правительства Папена. «Прежде чем рейхстаг обратится к частным задачам,—сказала
она,— он должен осознать и выполнить свой главный долг — прогнать имперское
правительство, пытающееся полностью устранить рейхстаг и разорвать
конституцию... Веление времени — создание единого фронта всех трудящихся, чтобы
отбросить фашизм... Место всех, над кем нависла угроза, всех страдающих, всех,
стремящихся к освобождению,— в едином фронте против фашизма и его
уполномоченных в правительстве!»5 Старая коммунистка символизировала
все то светлое и прогрессивное, что противостояло черной тени фашизма,
надвинувшейся па Германию. Даже ярые ненавистники, составлявшие большую часть
аудитории, не посмели выполнить свое намерение и помешать старому
революционному бойцу провозгласить с трибуны рейхстага слово правды 6.
В тот же день состоялись выборы президента рейхстага и
его заместителей. Перед заседанием КПГ объявила, что она готова снять своего
кандидата и голосовать за социал-демократа, если в первом туре не будет избран
гитлеровец. Но этого и не понадобилось, ибо подавляющее большинство депутатов
буржуазных партий подало свои голоса за фашиста Геринга. Соглашение партии
Центра и Баварской народной партии с нацистами на этот счет было достигнуто еще
накануне открытия рейхстага. Брюнинг, Шефер (председатель БНП) и другие
католические лидеры встретились с Гитлером и выговорили себе посты двух
вице-президентов7, что не принесло им, однако, значительной пользы:
Геринг, еще со времен первой мировой войны .знакомый с Гинденбургом, старался
не допустить каких-либо контактов своих заместителей без его, Геринга, ведома и
участия. Следующее заседание было назначено на 12 сентября; оно и должно было
решить судьбу правительства, если бы в Германии еще сохранился парламентаризм.
В сложившихся же условиях несравненно более вероятным был иной вариант —
-----------------------------
5 «Verhandlungen des
Reichstags», VI. Wahlperiode, Bd. 454, S. 1—3.
6 У нацистов были и другие
соображения: они хотели продемонстрировать перед лицом своих возможных
союзников — депутатов партии Центра, что они приобрели необходимую «респектабельность» (G. Seifert. Das
Kabinett Papen. Wegbereiter der faschistischen Diktatur. Leipzig, 1956, S. 218
(дисс).
7 К. Schwend. Bayern zwischen Monarchie und
Diktatur. Munchen, 1954, S. 486.
324
разгон рейхстага, который осмелится высказать
недоверие правительству8.
Немецкие трудящиеся, раскрыв утром 5 сентября газеты,
онемели от негодования. Чрезвычайный декрет, во-первых, выполнял одно из самых
давних и самых неприемлемых для рабочего класса требований буржуазии, разбивая
тарифную систему зарплаты, которая предусматривала единые ставки в каждой
отрасли производства. Теперь зарплата могла устанавливаться на каждом отдельном
предприятии, что имело целью разобщить силы рабочего класса и ослабить борьбу
против произвола капиталистов. Далее декрет разрешал снижать зарплату в
отраслях производства или даже на отдельных предприятиях, находившихся в
особенно «тяжелом положении»; этот пункт, естественно, допускал возможность
самого широкого произвола, которым не замедлили бы воспользоваться многие
предприниматели. Декрет предусматривал снижение зарплаты (на 121/2%
и более) и иным путем —при принятии на предприятие новых рабочих общая сумма
зарплаты не должна была повышаться. Следовательно, те, кто работал, должны были
отдавать часть своего заработка вновь нанятым, а дополнительную прибыль от труда
последних клал бы в карман капиталист. По подсчетам «Роте фане», на
плечи рабочих взвалили новое колоссальное бремя в 3,3 млрд. марок9.
Но перечисленным дело не ограничивалось. Декрет вводил
особую премию для предпринимателей: за каждого вновь принятого человека
заводчик получал 400 марок; всего для этой цели было ассигновано 700 млн.
марок. Но, пожалуй, наиболее выгодной для предпринимателей была статья декрета,
предусматривавшая снижение налога на капитал и оборот. В случае расширения
производства капиталист получал длительную отсрочку по налоговым платежам.
Эта прямая субсидия составила бы 1,5 млрд. марок, а в целом буржуазия
выигрывала по новому декрету около 5,5 млрд. марок. Чуть ли не на следующий
день началось еще невиданное, даже в условиях тяжелейшего экономического
кризиса, наступление предпринимателей на и без того низкий жизненный уровень
рабочего класса. Чрезвычайный декрет оказался каплей, переполнившей чашу терпе-
----------------
8 Характерное
свидетельство этого — документ из судебного дела депутата рейхстага коммуниста
Э. Грубе; в письме прокурора от 30 августа
9 «Rote
Fahne», 7.1X 1932.
325
ния многих пролетариев, которые прислушивались раньше
к пропаганде реформистских лидеров о «необходимости» воздержаться от борьбы.
В годы кризиса не прекращались выступления трудящихся,
положение которых ухудшалось с каждым днем. Но размах этих выступлений отставал
от объективных возможностей, обусловленных неуклонным углублением кризиса. Об
этом красноречиво говорит статистика забастовочного движения. Так, в
Таким образом, фактически происходило свертывание
стачечного движения, и это было следствием влияния реформистской догмы, будто
массовая безработица в период кризиса делает забастовки невозможными. Все было
бы иначе, если бы за коммунистической партией шло большинство пролетариата. И
одна из объективных трудностей партии заключалась в том, что в ее рядах был
значителен процент безработных (весной
Коммунистическая партия постоянно видела свою
важнейшую задачу в том, чтобы поднимать массы на борьбу против фашизации,
против наступления монополий. И, естественно, в этой борьбе стачкам должно было
принадлежать важнейшее место. Компартия неустанно призывала своих сторонников
перенести центр тяжести всей работы на предприятия, крепить солидарность
занятых рабочих с безработными, чтобы тем самым полностью обеспечить успех
стачек —этого могучего орудия пролетариата. Активизировать выступления на
заводах и фабриках было также целью кампании «Антифашистская акция», которая
отнюдь не должна была ограничиваться организацией вооруженного отпора
фашистскому террору12. Под знаком «Антифашистской акции» надлежало
поднять знамя сопротивления произволу капиталистов, целью которых было
сократить потери монополий, вызванные кризисом, и возложить их на рабочих, на
безработных.
-----------------------------
10 «Коммунистический
Интернационал», 1932, № 14, стр. 22.
11 Фонды ГМР,
8259/2, Д445—ПА, стр. 3.
12 Это
вызывало нескрываемую тревогу властей. «Особого внимания,—говорилось в сводке
берлинского полицей-презвдиума (сентябрь
326
«Каждая забастовка протеста, каждая экономическая
забастовка или проведение всеобщей стачки с целью свержения правительства
Папена и отмены его чрезвычайных декретов,—говорилось в одном из циркулярных
писем ЦК КПГ летом
Уже 8 сентября «Роте фане» сообщала о волне протеста
против чрезвычайного декрета, подымавшейся на предприятиях; настроение рабочих
повсюду было боевое. На заводах и фабриках Берлина проходили митинги, где
принимались решения объявить забастовку в случае снижения заработной платы.
Этих решений кое-где оказалось достаточно, чтобы заставить владельцев сохранить
прежние ставки; так было, например, на большом машиностроительном заводе в
Берлине, на бумажной фабрике в Мерзебурге, на металлозаводе в Дортмунде. Всего
таких предприятий оказалось около 80 15.
В первой половине сентября бастовали рабочие около 200
предприятий. В их числе были и крупные, например машиностроительный завод фирмы
«Оренштейн и Копель» в Берлине, а несколько позднее — известный
моторостроительный завод БМВ в Мюнхене. Вступили в стачку 10 тыс. транспортных
рабочих Гамбурга. Предположение о массовом штрейкбрехер-
----------------------
13 Фонды ГМР, 8462/2 Д445— 11А, стр. 2.
14 Там же,
8630/1 Д445—11, стр. 3.
15 E. Kucklich, E.
Liening. Die Antifaschistische. Aktion.—
«Beitrage zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung», 1962, N 4,
S. 887.
327
ствс безработных не оправдалось; б подавляющем большинстве они были
полностью солидарны с забастовщиками, участвовали в пикетах вокруг предприятий
и т. д. Это было большой заслугой 'Компартии, проводившей упорную
разъяснительную работу среди миллионов тружеников, лишенных работы. «Никакое
правительство Папена—Шлейхера, ни один магнат капитала, ни один фабричный
король, ни один юнкер не сумеет отнять у нас даже пфенниг,— говорилось в
воззвании ЦК КПГ от 15 сентября,—если на любую атаку предпринимателей вы ответите
борьбой, если вы будете противостоять им в братской боевой сплоченности» 16.
Всего в течение сентября—Декабря
А вот что говорилось в журнале, выражавшем точку
зрения либеральных кругов буржуазии: «Наиболее важным фактом современной
классовой борьбы между капиталом и трудом представляется общая и спонтанная
активность, которой пролетариат ответил на волну снижения зарплаты... Значение этих
-----------------------
16 «Die Antifaschistische Aktion. Dokumentation
und Chronik. Mai 1932 bis Januar 1933». Berlin, 1965, S. 241.
17 «Geschichte der
deutschen Arbeiterbewegung», Bd. 4. Berlin, 1966, S. 365— 366; см. также «Beitrage zur
Geschichte der Arbeiterbewegung», 1971, N 3, S. 465.
18 Фонды ГМР, 10298/10, Д445—15B.
19 «Die Tat», 1932, N
9, S. 742, 743.
328
успешных боев трудно переоценить, и не только потому,
что они убийственно опровергают широко-распространенную точку зрения
руководства профсоюзов о принципиальной бесперспективности забастовок во время
кризиса»20. Осуществить грабительские требования монополий оказалось
неизмеримо труднее, чем сделать это на бумаге. Мощный отпор пролетариата (даже
несмотря на то, что большинство крупных предприятий не было охвачено стачечной
волной) полностью провалил правительственную программу (после отставки Папена
от нее пришлось отказаться и формально). Изумление, страх и бешеная злоба—
такова была реакция правящих кругов21.
Вот почему особенно смехотворными выглядят попытки
некоторых буржуазных историков преуменьшить значение забастовочного движения,
развернувшегося в Германии осенью
В действительности все более множились симптомы
определенного перелома в ходе классовой борьбы — перелома в пользу
пролетариата. А это в свою очередь вело к изменениям в соотношении сил на
политической арене. «Возросшая активность пролетариата в классовой борьбе,—писал
позднее В. Пик,— увеличила его притягательную силу для остальных слоев
трудящихся и привела к тому, что подъем гитлеровского движения сменился застоем
и даже, впервые, серьезным попятным движением»24. Прежде всего это,
как обычно, проявилось среди коричневорубашечников, крайне недовольных
неопределенностью положения, неуверенностью в том, придет ли когда-нибудь
фашистская партия к власти. А после 13 августа перспективы такого прихода
казались весьма значительно уменьшившимися.
Печать сообщала о многочисленных фактах брожения в
штурмовых отрядах. Так, в начале сентября из отряда № 31 в Альтоне ушел 21
человек. В Кёльне нацистам пришлось рас-
------------------
20 «Deutsche
Republik», 1932, N 3, S. 101.
21 29
сентября вопросом о стачках занималось имперское правительство. Представитель
министерства труда заявил, что оно с огромным вниманием наблюдает за
забастовочным движением (DZAP, Reichskanzlei, Kabinettssitzungen, N755, Bl. 790
854).
22 К. Schwend. Bayern zwischen Monarchie und
Diktatur, S. 455.
23 На деле в
инструкции организациям гитлеровской партии на предприятиях говорилось: «То
обстоятельство, что борьбу следует вести особыми методами, вытекает из нашей
численной слабости на предприятиях» (ЦПА ИМЛ, ф. 215, оп. 1, ед. хр. 95).
24 «Коммунистический
Интернационал», 1935, №9, стр. 22.
329
![]() пустить
взбунтовавшийся отряд района Альштадт. Вскоре, по признанию общегерманского
командования штурмовых отрядов, было распущено еще четыре отряда — в Эшвейлере,
Ганновере, Берлине и Кенигсберге. В Крефельде (Нижний Рейн) дело дошло до
побоища между штурмовиками и эсэсовцами. Брожение среди сторонников нацистской
партии происходило и в
других городах, причем кое-где оно имело особенно неприятные для правящих
кругов результаты. В Вуппертале, например, 18 штурмовиков перешли в Союз борьбы
против фашизма. Именно этого больше всего боялись и главари нацистов, и
монополисты, независимо от того, поддерживали ли они гитлеровцев или
соперничавшую с ними группировку. Встревоженный развитием событий, орган «Клуба
господ» журнал «Ринг» писал, что «среди штурмовиков царят упадочные настроения.
Намечаются контуры кризиса... Каждое оттягивание захвата власти вызывает в их
рядах волнение. Сейчас оно особенно сильно... Раньше или позже должен
закономерно наступить кризис»25.
пустить
взбунтовавшийся отряд района Альштадт. Вскоре, по признанию общегерманского
командования штурмовых отрядов, было распущено еще четыре отряда — в Эшвейлере,
Ганновере, Берлине и Кенигсберге. В Крефельде (Нижний Рейн) дело дошло до
побоища между штурмовиками и эсэсовцами. Брожение среди сторонников нацистской
партии происходило и в
других городах, причем кое-где оно имело особенно неприятные для правящих
кругов результаты. В Вуппертале, например, 18 штурмовиков перешли в Союз борьбы
против фашизма. Именно этого больше всего боялись и главари нацистов, и
монополисты, независимо от того, поддерживали ли они гитлеровцев или
соперничавшую с ними группировку. Встревоженный развитием событий, орган «Клуба
господ» журнал «Ринг» писал, что «среди штурмовиков царят упадочные настроения.
Намечаются контуры кризиса... Каждое оттягивание захвата власти вызывает в их
рядах волнение. Сейчас оно особенно сильно... Раньше или позже должен
закономерно наступить кризис»25.
Обострение разногласий в
буржуазном лагере
Негодование народных масс, вызванное политикой Папена,
стремились в демагогических целях использовать главари гитлеровцев, не видевшие
более необходимости в сохранении у власти правительства, с которым им не
удалось договориться. Отсюда и их тактика на заседании рейхстага 12 сентября —
последнем в краткой истории этого парламента. Сразу же после открытия заседания
было выдвинуто требование о голосовании вотума недоверия правительству.
Согласно регламенту, для отклонения этого требования достаточно было возражения
хотя бы одного из депутатов; тогда пришлось бы прежде заслушать
правительственную декларацию. Но никто из депутатов, даже из небольшого числа
поддерживавших правительство, не выступил с таким возражением. Когда Геринг
приступил -к голосованию, Папен упорно,
но безуспешно пытался получить слово для заявления о роспуске рейхстага.
Потерпев неудачу, он покинул зал, оставив на столе председателя папку с
декретом, которую, однако, Геринг игнорировал. Гитлеровцы стремились обнаружить
предельную слабость правительства, чтобы тем самым сделать его сговорчивее.
Результаты голосования были сокрушительными для Папена
и его клики. За правительство было подано 42 голоса, против— 530. Такой исход
уничтожал последние остатки престижа кабинета, если они еще имелись. Но так как
декрет о роспуске вошел в силу, хозяином положения все же остался Па-
-------------------------------
26 «Ring»,
1932, N34, S. 562. 330
пен. Неповторима по своему неприкрытому цинизму была
мотивировка роспуска: он стал якобы необходимым, ибо «рейхстаг мог (!) отменить
чрезвычайный декрет от 4 сентября»26. Таким образом, угроза
того, что рейхстаг выполнит свою конституционную функцию, была в той обстановке
достаточна для его разгона.
В последующие дни между рейхстагом, точнее —его
постоянными органами, и кабинетом бушевал конфликт по вопросу,
соответствовал ли роспуск парламента конституции. Комиссия рейхстага по
обеспечению прав народного представительства приняла решение, в котором
говорилось, что «имперское правительство в нарушение конституции было намерено
при любых обстоятельствах распустить рейхстаг еще до голосования предложения об
отмене чрезвычайного закона и вотумов недоверия». Комиссия даже высказала
резкий протест против обыска, учиненного папеновской полицией в помещении
коммунистической фракции рейхстага, и потребовала наказания виновных 27.
Но Папен и другие члены правительства не реагировали на все это. Они не только
чувствовали за собой силу штыка, но и знали, что их оппоненты из буржуазного лагеря
так же, как и они сами, не ставят народное представительство ни в грош и лишь в
недавнем прошлом прилагали огромные усилия, чтобы свести его значение на нет.
И все же как быть с рейхстагом? Назначить выборы в
предписанный конституцией двухмесячный срок или осуществить наконец давнюю
мечту реакции и распрощаться с парламентом совсем? Эти вопросы занимали умы
Папена и его коллег. На первом же заседании правительства после 12 сентября
вновь обсуждались планы устранения рейхстага. Гайль, как и ранее, предлагал
отсрочить выборы на неопределенное время; его поддержал Шлейхер. Но другие
министры высказали мнение, что для отказа от конституции срок еще не пришел2S.
Выборы были назначены на 6 ноября. В то же время тогдашние правители
озаботились подысканием юридических оправданий для нарушения основного закона
республики в будущем. С этой целью ближайший сотрудник Шлейхера Отт (будущий
германский посол в Японии в период бытности там Зорге) находился в тесном
контакте с буржуазными учеными-правоведами, в частности с главой реакционной
юридической школы К. Шмиттом, получившим задание найти «обоснования» для
------------------------------------
26 «Verhandlungen des
Reichstags», Bd. 454, S. 15. Брюнинг (со
слов Геринга) утверждает, что эта мотивировка сочинялась здесь же, в рейхстаге (Н.
Вruning. Memoiren
19I8—1934. Stuttgart, 1970, S. 628).
27 «Jahrbuch des
offentlichen Rechts der Gegenwarb, Bd. 21. 1933/34.
28 Th. Vogelsang. Reichswehr,
Staat und NSDAP. Beitrage zur deutschen Geschichte 1930—1932. Stuttgart, 1962,
S. 281—282.
331
устранения рейхстага29. Цели реакционеров
яснее и откровеннее других выразил советник президента республики
Ольденбург-Янушау, заявивший, что германский народ получит такую конституцию,
«от которой он лишится зрения и слуха» 30.
Трудно придумать что-либо отвратительнее демагогии,
заполнявшей в эти месяцы страницы нацистских изданий и представлявшей
гитлеровцев... защитниками -конституции от посягательств правительства! Тот
самый гитлеровец Керль, который в качестве председателя прусского ландтага 18
июля направил Папену письмо, где настаивал на немедленных действиях, теперь, со
свойственной нацистам абсолютной бесцеремонностью утверждал, будто он вовсе «не
требовал назначения имперского комиссара, а считал достаточным восстановить
конституционные порядки»31. Председатель нацистской фракции'
ландтага Кубе, еще недавно добивавшийся назначения имперского комиссара, теперь
говорил: «Я хотел бы узнать, руководствуясь какими мотивами и какими
положениями конституции, господа Брахт и Папен устранили правительство,
избранное на основании закона и конституционных установлений?»32. В
лживом фашистском хоре, естественно, был слышен и голос «фюрера». Он заявил 7
сентября: «Если другие утверждают, что конституция пережила себя, то мы
говорим: только теперь конституция приобретает свой смысл!»33
Фашистские главари, только один-два месяца назад
выступавшие тесными союзниками Папена и Шлейхера, проливали крокодиловы слезы,
оплакивая судьбу рейхстага. «Мы должны констатировать,—говорил Геринг, выступая
6 декабря,— что парламент сейчас —единственное место, где могут дать знать о
себе стремления немецкого народа»и. Нацисты «осуждали»
правительство за узурпацию власти в крупнейшей из германских земель, дойдя даже
до угрозы потребовать предания Гинденбурга Верховному суду35. Пресса
была полна всевозможных обвинений, разоблачений, компрометирующих материалов.
----------------
29 Заключение
трех юристов во главе со Шмиттом было использовано Шлейхером на заседании 14
сентября. Они санкционировали — с точки зрения «науки» — отсрочку выборов, а
также роспуск прусского ландтага, предложив кроме того развернуть
пропагандистскую кампанию на тему: «Парламент нарушает конституцию». («Staat, Wirtschaft
und Politik in der Weimarer Republik». Berlin, 1967, S. 136—137).
30 O.-E. Schuddekopf. Des Heer und die
Republik. Hannover, 1955, S. 345.
31 «Jahrbuch des
offentlichen Rechts der Gegenwart», Bd. 21, S. 44.
32 «Sitzungen des
Preussischen Landtags», 4. Wahlperiode, Bd. 1, Sp. 1410.
33 M. Domarus. Hitlers Reden und
Proklamationen. 1932—-1945, Bd. 1. Munchen, 1965, S. 135.
34 «Verhandlungen des
Reichstags», VII. Wahlperiode, Bd. 456,
S. 9.
35
Стремясь убедить общественное мнение, что он неизбежно станет преемником
Гинденбурга, Гитлер заявил на массовом митинге в Мюнхене: «Моему основному
конкуренту, президенту Гинденбургу, уже 85 лет, мне же 43 года, и я чувствую
себя вполне здоровым... Когда мне исполнится 85 лет, госпо-
332
Ухудшились и отношения гитлеровцев с другой
представительницей крайней реакции— Национальной партией, озлобленной упорным
стремлением нацистов, своими успехами в немалой степени обязанных деньгам
Гугенберга, к единовластию. Еще накануне июльских выборов в рейхстаг в
бюллетене националистов с характерным названием «Атака» гитлеровская партия
подверглась хлесткой критике. Над всем бюллетенем шла шапка: «Национальная??
Социалистическая??» В самом тексте, между прочим, говорилось: «Германию не
спасет, если после 31 июля установится единовластие национал-социалистской
партии с неясностями ее программы и невыполнимыми целями. Только сильная
Национальная народная партия является гарантией спасения Пруссии и империи»36.
Лидеры Национальной партии намеревались
воспользоваться трудностями, которые переживали гитлеровцы, чтобы изменить в
свою пользу соотношение сил обеих партий. Примерно к этому времени относятся
слова Гугенберга, выражающие намерения тех кругов, которые были его союзниками
и поддерживали его: «Гитлер служит поставщиком масс, мы же предоставим мозги»37.
Можно и не говорить о том, что гитлеровцы не оставались в долгу, осыпая своих
союзников отборной бранью и ничуть не щадя при этом их руководителя, которого
именовали не иначе, >как карликом38. Гитлеровцы почти не скрывали
стремления к единовластию. Один из их главарей, Киллингер, в прошлом командир
добровольческого контрреволюционного соединения, заявил: «Быть может,
необходимо воспользоваться национальной средой как опорой и трамплином, чтобы
завладеть государственной властью. Но мы уже теперь можем гарантировать, что в
тот самый момент, когда она будет в наших руках, каждый ненационалист и каждый
несоциалист вылетит из нашего правительства» 39, Полемика между
соперниками-единомышленниками отражала грызню за долю в будущей добыче.
------------------------
дина Гинденбурга уже давно не будет в живых»
(«Deutsche Allgemeine Zeitung», 8.1X 1932).
36 ЦПА
ИМЛ, ф. 215, оп. 1, ед. хр. 194. Архивные документы свидетельствуют, что лидеры
националистов и «Стального шлема» хорошо понимали, что Гитлер стремится
«прижать их к степе», но упорно рассчитывали взять верх над нацистами. В
меморандуме, составленном еще в апреле
37 К. О. Aretin, G. Fauth.
Die
Machtergreifung. Munchen, 1959, S. 47.
38 ЦПА ИМЛ, ф. 215, on. 1, ед. хр. 194.
39 «Verhandlungen des
Reichstags», Bd. 446, S. 2147.
333
Более серьезный характер носили все углублявшиеся
противоречия по вопросу о дальнейших путях достижения общих для политических
организаций реакции целей40. Подъем массового движения осенью
А на фоне междоусобицы в лагере буржуазии рельефнее,
чем когда-либо вырисовывалась фигура генерала, олицетворявшего собой военщину,
претендовавшую на роль вершителя судеб нации. Шлейхер держал в своих руках все
нити политической игры; он по-прежнему находился в контакте с гитлеровцами,
предлагая им согласиться на условия, о которых шла речь во время переговоров 13
августа. С каждым днем становилось яснее, что задача, возложенная на
правительство Папена,— привлечение нацистов к управлению государством в
коалиции с другими реакционными партиями — не будет выполнена. В связи с этим у
вершителей судеб страны возникла мысль поставить во главе правительства
генерала, который повторил бы попытку достичь соглашения с нацистами. Что
касается самого Шлейхера, то он уже тогда наметил план отрыва от гитлеровской
партии более или менее крупной группировки, склонной к соглашению, что не могло
бы не повлиять на всю партию41.
Как писала 15 ноября газета «Дейче альгемейне
цейтунг», отражавшая взгляды воротил тяжелой промышленности, хотя в лагере
правых организаций имелось единство по поводу необходимости диктатуры, «но
полное отсутствие единства сказывается при постановке вопроса о том, какими
средствами и при помощи каких лиц следует осуществлять управление государством
в новом духе», Немало капиталистов еще и в то время не преодолело своего
недоверия к нацистам, вызванного их антикапиталистической демагогией. К ним
относился и Крупп, возглавлявший в то время Союз германской промышленности.
--------------------
40 Директор
«Дейче банк» Штаус писал 1 октября в частном письме: «Следует глубоко сожалеть,
что подлинно национальное правительство и подлинно национальная партия
очутились в столь враждебных отношениях, до смягчения которых я не вижу прочной
основы для возрождения нашей экономики» (Deutsches Wirtschaftsinstitut, Archiv, Deutsche Bank, A23/1).
41 АВП СССР,
ф. 82, п. 58, оп. 16, д.
334
Несомненно, многое привлекало его в Гитлере, с которым
он более или менее часто общался (об одной такой встрече за «семейным
чаепитием» мы знаем из мемуаров представительницы берлинского «высшего света»
Б. Фромм42). Но многое их еще разделяло — это видно, например, из
отчета о посещении Крупном Гинденбурга в октябре
Выше уже говорилось, что магнаты капитала принимали
меры, чтобы обеспечить полное соблюдение своих интересов гитлеровцами. В своих
показаниях на судебном процессе Флика банкир Шредер заявил, что, участвуя в
известном «кружке друзей фюрера», он и его единомышленники стремились
«гарантировать разумное (с точки зрения монополий.— Л. Г.) решение
экономических проблем партийными кругами»44. Со своей стороны Гитлер
в узком кругу говорил нечто совершенно противоположное тому, о чем без устали
кричали нацистские пропагандисты во главе с Г. Федером; как раз в это время он
заявил Раушнингу45: «Не прислушивайтесь к тому, что говорят Федер и
его люди, если даже это одобрено партией. Они могут говорить, что хотят; когда
я приду к власти, то позабочусь, чтобы они не причинили никакого вреда»46.
Но потребности борьбы за массовую базу вновь и вновь
"побуждали нацистов прибегать к шумихе по поводу «процентного рабства» и
«хищнического капитала». Неустанную работу, имевшую целью рассеять возникавшие
в связи с этим подозрения, вел главный эмиссар Гитлера в лагере тяжелой
промышленности Шахт. Для очень многих представителей круга, где вращался
отставной председатель Рейхсбанка, его заверения значили больше самых веских
аргументов.
Сообщая 12 апреля Гитлеру, что промышленники Западной
Германии в целом симпатизируют нацистской партии, но все еще испытывают
сомнения насчет ее экономической программы, Шахт выражал надежду, что она будет
приведена в соответствие с принципом частной собственности как основы экономики
47. 29 августа Шахт б письме
Гитлеру подал нацистам весьма полезный для них совет. «Если только возможно,—пи-
------------------------------------
42 В. Fromm. Blood and Banquets. A. Berlin Social Diary. New
York, 1942, p. 52.
43 E. Czichon. Wer verhalf Hitler
zur Macht? Koln, 1967, S. 38.
44 «Trials of War
Criminals before the Nuremberg Military Tribunals», vol. VI. Washington, 1952, p. 322.
45 Г.
Раушнинг был в то время нацистом и занимал пост президента данцигского
(гданьского) сената. В дальнейшем он порвал с гитлеровцами и, бежав из
Германии, еще в довоенные годы опубликовал несколько книг, разоблачавших
нацизм.
46 H. Rauschning. Gesprache mit Hitler. New York, 1940, S. 26.
47 «Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft»,
1957, H. 4. S. 821.
335
сал он,—не выступайте с детализированной программой.
Не может быть такой программы, вокруг которой могло бы объединиться 14 млн.
человек»48. Шахт использовал все доступные ему средства, чтобы
расчистить гитлеровцам путь в рейхсканцелярию. Из показаний Папена на
Нюрнбергском процессе главных немецких военных преступников известно, что Шахт
даже явился к нему домой, чтобы потребовать отказа от власти в пользу Гитлера.
«Отдайте вашу должность Гитлеру,— заклинал Шахт Папена,— это единственный
человек, который может спасти Германию»49.
В эти месяцы вновь и вновь происходили встречи Гитлера
с промышленниками, имевшие целью расширить круг лиц, заинтересованных в
предоставлении нацистам власти. Из книги Тис-сена известно, например, что одно
совещание такого рода состоялось в сентябре
Сам Папен, вероятно, уже в это время последовал бы
совету Шахта; но дело было сложнее. Причины столкновения недавних друзей
восходили к конкурентной борьбе промышленно-банковских групп, к стремлению
каждой из них главенствовать. В пылу избирательной кампании, пытаясь укрепить
свои позиции и ослабить конкурента, чтобы сделать его более покладистым, обе
стороны не скупились на любопытные разоблачения.
Гитлеровцы на все лады расписывали антинародный
характер правительства Папена. Нацисты делали это с присущей им абсолютной
беззастенчивостью. Так, в одной из предвыборных листовок гитлеровской партии
правительство подвергалось критике... за выполнение требований
«безответственных предпринимателей» насчет тарифных договоров. «Это означает
практически разрыв тарифной системы!» — демагогически восклицали нацисты,
«забывая», что они сами выступали за разрыв этой системы52.
Папен и его единомышленники не оставались в долгу,
давая волю своему недовольству вероломными союзниками, нарушив-
--------------------------------
48 «Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal», vol. XXXVI. Nuremberg, 1948, p. 536.
49 «Нюрнбергский
процесс. Сборник материалов», т. II. М., 1955, стр. 302.
50 F. Thyssen. I Paid Hitler. New
York — Toronto, 1941, p. 110.
51 A. Schweitzer. Big Business in the
Third Reich. Bloomington, 1964, p. 103.
52 ЦПА НМЛ, ф. 215, on. 1, ед. хр. 193.
336
шими обязательства. В предвыборных речах Папена не раз
говорилось о том, что гитлеровская партия стремится уничтожить все другие
.политические организации, что обещания нацистских главарей не стоят ломаного
гроша и т. п. Выступая 12 октября перед промышленниками Баварии, Папен говорил:
«Национал-социалисты искажают факты, утверждая теперь, что они вовсе не
требовали всей власти, а были готовы участвовать в правительстве наряду с
другими, не принадлежащими к ним лицами. Но разве такое признание как-либо
повлияло на их претензии на исключительное руководство!»53.
В весьма сложном положении оказалась
социал-демократия; правящие круги все очевиднее отказывались от ее услуг,
подчас даже подвергая ее преследованиям, а фашисты убивали и ранили членов и
сторонников партии; в то же время внутри СДПГ неуклонно усиливалось
недовольство низов, выступавших против официального курса партийного
руководства. Сильнейший толчок оппозиционным настроениям был дан событиями 20
июля, особенно наглядно обнажившими банкротство политики СДПГ. «В этот
день,—признал автор передовой статьи одного из социал-демократических журналов,—
социалистическое движение утратило значительную часть веры в себя, и в такое
время, как наше, это будет много значить»54. О последствиях 20 июля
говорилось в полицейских донесениях, отмечавших «сильнейшее разочарование,
парализовавшее ударную силу партии» 55.
Влияние партии неизменно падало, но ее лидеры
продолжали с некоторыми вариациями все ту же пагубную политику, добиваясь
возврата благосклонности буржуазии. Основой этой политики был антикоммунизм.
Газеты и журналы СДПГ неизменно заполнялись инсинуациями о деятельности КПГ,
призывами к борьбе с нею. Теоретик СДПГ Шифрин, вспоминая свою статью
Некоторые круги в СДПГ даже склонялись к мысли о
допущении гитлеровцев к власти. В «Форвертсе» за 7 августа можно было
прочитать, в частности: «Конечно, намерение цивилизовать ее (нацистскую
партию.— Л. Г.), приучить ее к от-
--------------------------
53 «Deutsche Allgememe Zeitung», 12.X 1932
54 «Neue Blatter fur
den Sozialismus», 1932, N 9, S. 4oO
55 Deutsches Zentralarchiv, Abt.
Mersebung, Rep. 77, Tit. 4043, N 277, Bl. 36.
56
«Gesellschaft», 1932, N 12, S. 484-485.
337
ветственности,
предоставить ей возможность позитивной работы... понятно каждому мыслящему
человеку». Такой точки зрения придерживался, в частности, весьма влиятельный в
руководстве СДПГ бывший глава правительства Пруссии О. Браун57.
Иногда выступления в пользу включения гитлеровцев в правительство обосновывались
тем, будто это приведет к их упадку. Так, например, в теоретическом органе СДПГ
говорилось (и не один раз), что «переход от оппозиции к ответственности создаст
для фашизма критическую ситуацию» и «вызовет в национал-социалистской
партии разложение, лишит ее силы»58. Подобные высказывания обычно
снабжались оговорками вроде того, что с властью нацистов можно будет
примириться, если они будут соблюдать буржуазно-демократические «правила
игры»,— как будто еще недостаточно было доказательств решимости гитлеровской
партии навсегда покончить с остатками демократических свобод.
Вместе с тем среди некоторых деятелей СДПГ кризис,
который переживала партия, усилил стремления к дальнейшему, и притом коренному,
пересмотру ее мировоззрения, окончательному отказу от марксизма.
«Социал-демократия находится сейчас на перепутье,— писал Ф. Гейер.— Если она и
в дальнейшем сохранит прежних руководителей, прежние идеи и методы, то ее
судьба незавидна». Каковы же средства, чтобы избежать этого? Они, оказывается,
якобы заключались в отказе от «вредных» лозунгов «пролетариат против
буржуазии», «интернациональное выше национального» и т. п.59 Это
сочеталось с призывом к кардинальной смене руководства60. Но Гейер и
его единомышленники отнюдь не имели в виду заменить обанкротившихся лидеров
партии сторонниками решительной борьбы против фашизма, приверженцами единого
фронта. Речь шла совсем об ином: о приходе к руководству людей (к ним
принадлежали, например, один из самых молодых депутатов рейхстага от СДПГ,
Мирендорф, бывший чиновник берлинского полицей-президиума Хаубах и др.),
которые пришли к выводу, что социал-демократия должна перенять у нацистов
приемы и даже принципы, обеспечивающие им те ощутимые успехи, которых они
добились во время последних избирательных кампаний.
Страницы социал-демократических изданий
предоставлялись для публикации «опыта» таких местных функционеров партии,
----------------------------
58 «Gesellschaft»,
1932, N 10, S. 285; N 13, S. 480.
59 «Neue Blatter fur
den Sozialismus», 1932, N 9, S. 449, 453.
60 В
начале сентября произошли кое-какие изменения в руководстве фракции СДПГ в
рейхстаге—были введены К- Шумахер и Ф. Эберт (младший) («Vorwarts», 3.IX 1932).
338
которые в следовании нацистам «вырвались вперед». Так,
один из них рассказывал, будто бы ему удалось увеличить число избирателей СДПГ
вследствие того, что дискуссии на собраниях были устранены и заменены
скандированием лозунгов и клятв, а затем исполнением пресловутого гимна
германских шовинистов и милитаристов «Германия превыше всего»61.
Другой автор предлагал ввести для «Железного фронта» форму, утверждая, что
«фашизм обязан значительной долей своей популярности наличию формы»62.
В листовке, относящейся к ноябрю
Стремления руководства СДПГ к сближению с «кабинетом
баронов» поддерживали и проводили в жизнь профсоюзные лидеры, постоянно
принадлежавшие к наиболее правым группам социал-демократической партии. В
октябре
Тенденция к замирению с правительством проявилась и в
выступлениях влиятельных лидеров партии, например О. Брауна,
---------------------
61 «Neue Blatter fur
den Sozialismus», 1932, N 8, S. 442.
62 «Das freie Wort»,
1932, N 39, S. 20.
63 ЦПА ИМЛ,
ф. 215, on. 1, ед. хр. 210.
64 «Sozialistische Monatshefte»,
1932, N 9, S. 746—748; «Neue Blatter fur
den Sozialismus», 1932, N II, S. 586. Социал-демократических лидеров заботило лишь одно: чтобы изменения
конституции совершались «законным» путем. «Иначе,— говорилось в изданной в виде
листовки речи Лебе, которую он должен был произнести в рейхстаге, но не смог
сделать этого из-за роспуска последнего,— граждане почувствуют себя освобожденными
от обязанности соблюдать законы» (ЦПА ИМЛ, ф. 215. оп. 1, ед. хр. 194). А соблюдение этой традиции
значило в условиях Германии особенно много.
65 «Tagliche
Rundschau», 29.XI 1932.
339
в пользу участия СДПГ и «Рейхсбаннера» в деятельности
государственной организации по «воспитанию молодежи», созданной осенью
С еще большим рвением социал-демократические лидеры —
и их точка зрения совпала с позицией определенных кругов гитлеровской партии —
поддержали план общественных работ, предложенный консервативным политическим
деятелем Тереке (в кабинете Шлейхера он занял пост комиссара общественных
работ, который и сохранял в первые месяцы после прихода Гитлера к власти).
Тереке изложил свой план 16 августа в берлинском «Доме прессы»; в основе
проекта лежало стремление использовать полударовой труд сотен тысяч
безработных. При этом последние были бы изъяты из многомиллионной армии
лишенных работы пролетариев, что способствовало бы притуплению остроты
классовых противоречий. План Тереке поддержал гитлеровец Кернеманн, а
выступивший после него генеральный секретарь «Рейхсбаннера» Гебхардт заявил:
«Сегодняшний день может стать поворотным пунктом экономического и политического
развития немецкого народа»68.
Наряду с попытками приспособиться к новой ситуации,
руководство СДПГ продолжало традиционную политику, зиждившуюся на стремлении
удержать своих сторонников от участия во внепарламентской борьбе против
реакции. Весьма характерна реакция руководства социал-демократии на слухи о
намерении правительства отсрочить выборы на неопределенный срок; лидеры СДПГ
восприняли это как огромную опасность... для господствующих классов.
«Предстоящая зима,— писал 13 сентября «Форвертс», имея в виду развитие
экономического кризиса,— будет и без того мучительна и тяжела. Правительство не
должно оставить никаких сомнений в том, что выборы со-
-------------------
66 В
некоторых социал-демократических изданиях меры по военизации молодежи
рассматривались... как приближающие социализм! («Neue Blatter fur den
Sozialismus», 1932, N 10, S. 552).
67 K.
Hierl. Im Dients fur Deutschland.
Heidelberg, 1954. А о подлинных целях организации нацистский лидер полковник в
отставке Хирль, представлявший в ее руководящих кругах гитлеровскую партию,
говорил в присутствии Гитлера следующее: «Всеобщая трудовая повинность (должна)
подготовить возобновление всеобщей воинской повинности и облегчить быстрое ее
осуществление. Разумеется, эту цель всеобщей трудовой повинности нельзя будет
провозгласить открыто и отразить в формулировке закона» («Deutschland in der
Weltwirtschaftskrise in Augenzeugenberichten». Dusseldorf, 1967 S. 285).
68 «Geheimverhandlungen zwischen Nazi-Rohm und
Reichsbanner-Мауг». Berlin, 1932, S. 9.
340
стоятся в срок. Если и этот вентиль будет закрыт,
никто не сможет взять на себя ответственность за дальнейшее». Подобные
заявления как нельзя более ярко показывают, что главари социал-демократии
по-прежнему видели главную задачу в предотвращении революционного взрыва, в
сохранении власти буржуазии. При этом находившиеся у власти группировки
реакционной буржуазии уже вновь, как и во времена Брюнинга, зачислялись в число
противников гитлеризма. «В борьбе против диктатуры национал-социалистов,—
писал, например, Шифрин,— будут участвовать рабочие-социалисты, политические
организации католицизма и, наконец, силы старой, держащей теперь в своих руках
государственный аппарат реакции»69.
Уже при правительстве Брюнинга социал-демократические
лидеры приложили немало усилий в попытках изобразить существовавший режим чуть
ли не как... преддверие социализма. Основанием для подобной манипуляции
послужили государственно-монополистические мероприятия, вызванные углублением
экономического кризиса. Теперь, при Папене, социал-демократическая фракция
внесла в рейхстаг серию законопроектов, предусматривавших на словах «социализацию»,
а на деле сводившихся к ряду новых мероприятий
государственно-монополистического характера. Обосновывая их, руководители СДПГ
утверждали, будто «современная экономическая и политическая обстановка создала
новые и более благоприятные предпосылки для быстрого перехода от капитализма к
социализму, чем когда-либо в прошлом» 70.
Это говорилось в то время, когда реакционные силы уже
готовились установить свое безраздельное господство над Германией! О. Вельс,
правый из правых в партии, 27 августа напечатал в «Форвертс» статью, в которой
объявил, что СДПГ провозглашает «новый крестовый поход за социализм».
Руководитель партии, сделавший и продолжавший делать все, чтобы помешать
рабочему классу добиться своей сокровенной цели, утверждал: «Социализм не является
более в Германии идеалом будущего, он —задача дня». Ему вторил В. Дитман:
«Сегодня социализм стоит у ворот капиталистического хозяйства»71.
Подобный обман дезориентировал тех, кто доверял
Вельсу, Лебе и им подобным. Не им было говорить о социализме, да и обстановка
была такова, что задача дня для пролетариата за-
-----------------------
69 «Gesellschaft»,
1932, N 10, S. 287. В тысячу раз более правы были левобуржуазные публицисты,
подчеркивавшие весьма относительный характер «антифашизма» католических политиков
и руководителей южно-германских государств (не говоря
уже о клике Папена — Шлейхера): «Для того, кто извлек из истории уроки,
немыслимо строить стратегию антифашизма на союзе с ними» («Deutsche Republik», 1932, N 41, S. 1287).
70 «Geschichte
der deutschen Arberterbewegung», Bd. 4, S. 368.
71 ЦПА ИМЛ,
ф. 215, on. 1, ед. хр. 210.
341
ключалась в ином — в борьбе за сохранение
демократических свобод. С полным основанием левобуржуазный журнал «Дейче
републик» писал: «Наиболее примечательное явление рабочего движения наших дней
—это идейный кризис социал-демократии... Ее идеологические основы понесли под
ударами последних месяцев такой урон, какой можно сравнить лишь с развалом
лассальянства в конце 60-х годов XIX в.»72
Банкротство политики СДПГ весьма красноречиво
проявилось в это время в связи с разбирательством в Верховном суде жалобы
Пруссии, Баварии и Бадена на действия Папена против прусского правительства.
Процесс открылся только 10 октября, когда все дело в значительной мере потеряло
политический смысл. Это очень точно предвидела К- Цеткин, сказавшая в своей
вступительной речи на открытии рейхстага: «Жаловаться Верховному суду на
правительство равносильно тому, что жаловаться на черта его бабушке»73.
Представители бывшего прусского правительства на процессе
уделили главное внимание доказательствам несправедливости обвинения в
«потворстве коммунистам». «Браун и Гржезинский,— напомнил А, Брехт,—уже в
Решение Верховного суда было образцом казуистики, в
которой простому человеку было не так-то просто разобраться. С одной стороны,
бывшие прусские правители целиком реабилитировались в главном обвинении —
потворстве КПГ. Но тогда следовало бы, казалось, отменить чрезвычайный декрет
от 20 июля. Между тем он был оставлен в силе во всем, кроме представительства
Пруссии в рейхстаге, рейхсрате и некоторых других организациях. Браун и
Зеверинг возобновили видимость
--------------------
72 «Deutsche Republik, 1932, N 10, S. 304.
73 «Verhandlungen
des Reichstags», Bd. 454, S. 2.
74 «Preussen
contra Reich vor dem Staatsgerichtshof». Berlin,
1933, S. 22.
75 Ibidem.
342
какой-то Деятельности, устраивали заседания (хотя им
никто не хотел платить и с трудом предоставляли помещение!) и т. п. 29 октября
Браун был даже принят Гинденбургом, но тут же Папен, как ни в чем не бывало,
назначил в Пруссию новых «комиссаров» взамен прежних министров; одно
министерство (благотворительности) было вообще ликвидировано за ненадобностью,
вновь уволена большая группа чиновников, еще оставшихся с прежних времен76.
Социал-демократические лидеры запротестовали: они только теперь (если верить
«Форвертсу») поняли, что речь идет о «захвате всей власти в Пруссии»77?!
И вновь они предложили массам, как единственное средство добиться «справедливости»,
голосовать на предстоящих выборах в рейхстаг за СДПГ.
А пока Папен имел все основания издеваться над
социал-демократическими поклонниками законности. После процесса он дал завтрак,
на который пригласил министров и юристов, представлявших в Лейпциге имперское
правительство; здесь царила атмосфера неприкрытого веселья, особенно когда
вниманию присутствовавших была предложена шуточная «Лейпцигская смесь» —
пародия на разбирательство прусской жалобы в Верховном суде78.
Однако Браун, Зеверинг и их коллеги и в последующие месяцы не прекращали
попыток найти общий язык с правящими кругами79.
Достойную отповедь им дала коммунистическая партия в
специальной листовке, выпущенной накануне выборов и разоблачавшей
прислужничество социал-демократических министров, которое ничуть не уменьшилось
после всех полученных ими пощечин и пинков. На суде в Лейпциге фигурировало
предложение Брауна и Зеверинга о том, что в случае формальной отмены
чрезвычайного декрета от 20 июля (с содержавшимся в нем «несправедливым»
обвинением в их адрес) они согласятся с существованием имперского комиссара и
будут сотрудничать с ним в подготовке государственной реформы80.
-------------------
76
28 октября Папен в качестве имперского комиссара издал распоряжение о том, что
всякое представительство бывшего прусского правительства (в соответствии с
решением Верховного суда) «допустимо только после предварительного согласия
имперского комиссара или назначенного им лица» («Jahrbuch des offentlichen Rechts der Gegenwart», Bd. 21, 1933/34, S.
54).
77 «Vorwarts»,
29.X 1932.
78 M. von
Braun. Von Ostpreussen bis Texas.
Stollhamm, 1955, S. 252.
79 Может
быть, поэтому Папен в своей последней книге, говоря о Брауне, вполне серьезно
утверждал: «При всей нашей политической противоположности я всегда
уважал его характерную и открытую манеру держать себя»; по словам Папена (который ссылается на одного из своих
бывших сотрудников по Анкаре), эта «симпатия» была взаимной (F. von Papen. Vom
Scheitern einer Demokratie. Mainz, 1968, S. 155).
80 Фонды ГМР,
9111/(7 Д445— 11П.
343
Против милитаризма и шовинизма
Мы уже говорили, что едва ли не главный смысл
выдвижения гитлеровцев монополистическим капиталом Германии заключался в стремлении поставить у власти силу,
которая сумела бы осуществить непосредственную материальную и, что было не
менее важно, идеологическую подготовку новой войны за завоевание мирового
господства. А предварительная работа для этого была проделана в предшествующие
годы, и она велась по всем линиям, хотя, конечно, в меньших масштабах, чем при
гитлеровской диктатуре.
В период жестокого экономического кризиса, когда, как
мы видели, бюджетные расходы на социальные нужды подвергались беспощадному
сокращению, ассигнования на военные приготовления не только не снизились, а,
наоборот, выросли. Они были непомерно велики по сравнению с военными расходами
многих других государств. В брошюре «Критические замечания к военному бюджету
Но прямыми, открытыми статьями бюджета отнюдь не
исчерпывались средства, которые милитаристы в полном единодушии с политическим
руководством страны грабительски изымали из резко сократившегося за годы
кризиса бюджета. Многомиллионные суммы направлялись в руки военщины тайно,
причем они постоянно росли. Техника этого дела вскрылась во время послевоенных
судебных процессов в Нюрнберге. «Черный бюджет» составлял 60—90 млн. марок
ежегодно; средства для него создавались путем преднамеренного завышения
расходов по статьям открытого бюджета. В период пребывания у власти Брюнинга
был сформирован с этой целью специальный комитет
-----------------------
81 ЦПА
ИМЛ, ф. 215, оп. 1, ед. хр. 99.
344
(он сохранился и в дальнейшем); утверждение же
ассигнований происходило на заседаниях правительства83.
Большие масштабы приобрело военное производство,
причем и в этой области грубо нарушались наложенные на Германию запреты. По данным французской разведки,
из 65 заводов, работавших в
Предметом особенных забот, правящих кругов было
укрепление восточных границ Германии как подготовительная мера к будущей
агрессии против непосредственных соседей и против Советского Союза. Этой цели
служила неутихавшая ни на один день пропагандистская кампания за «освобождение»
территорий, возвращенных после первой мировой войны Польше и Чехословакии; в
реваншистских выступлениях участвовали не только гитлеровцы и члены реакционных
военизированных союзов85, но и министры, депутаты и т. п. О
характере подобных высказываний можно судить по письму деятеля антипольского
«Союза восточной марки» (Гаката) Герцберга, возглавлявшего отделение этой
организации в Померании: «Я убежден в том, что мы должны вернуть отнятые у нас
земли силой оружия или отказаться от них». В меморандуме указанного отделения,
относящемся к
С трибуны рейхстага произносились речи, в которых
реваншистские претензии «обосновывались» тем, что немецкому народу будто бы «суждено
быть народом — руководителем Центральной Европы»87. Это провозглашал
вовсе не открытый фашист, а представитель одной из «респектабельных» буржуазных
партий. А председатель партии Центра Каас снабдил весьма одобрительным
предисловием книгу «Германия на распутье», автор которой писал: «Великогермания
будет прости-
----------------------------------
83 «Trial of Major
War Criminals...», vol. XXXIV, p. 598-603; «Trials of War Criminals...», vol.
XII, p. 559—560, 593.
85
Председатель «Стального шлема» Зельдте закончил свою речь на слете этой
организации в Бреслау (Вроцлав) в мае
87 «Verhandlungen des
Reichstags», Bd. 444, S. 383.
345
![]() раться
от Гамбурга до Прессбурга (Братислава.— Л. Г.) и от Тироля до Мемеля
(Клайпеда.— Л. Г.)... Она сможет в результате расширения своих границ
помочь также немцам Каринтии против затопления славянами и отстоять против
соседней Венгрии принадлежность Бургенланда к Германии»88.
раться
от Гамбурга до Прессбурга (Братислава.— Л. Г.) и от Тироля до Мемеля
(Клайпеда.— Л. Г.)... Она сможет в результате расширения своих границ
помочь также немцам Каринтии против затопления славянами и отстоять против
соседней Венгрии принадлежность Бургенланда к Германии»88.
Тайное вооружение и военное производство были в
Германии тех лет секретом полишинеля, о чем свидетельствуют многочисленные
донесения военных агентов держав-победительниц, опубликованные теперь в
различных документальных изданиях. Нередко эти донесения были составлены в
весьма сочувственном по отношению к германской военщине духе89. Тем
не менее власти опасались возможных разоблачений и жестоко преследовали всех,
кто пытался раскрыть планы и закулисную деятельность германских милитаристов. В
первую очередь это касалось коммунистов, ибо в рассматриваемый период
коммунистическая партия еще более, чем когда-либо, видела свою задачу в
разоблачении экспансионистских замыслов и военных приготовлений германских
монополий. И не было почти ни одного выступления против военных мероприятии
германского империализма, которое не повлекло бы за собой судебного
преследования «виновных». Документы, обнаруженные нами в архиве, показывают,
как и по чьей инициативе возникали такого рода дела.
В одном случае обвиняемым являлся депутат рейхстага Э.
Грубе, опубликовавший в редактируемой им газете «Трибюне» (орган КПГ в округе
Магдебург) статью «Миллион выстрелов в сутки». Речь шла о развертывании
военного производства на одном из предприятий Магдебурга. Требование о судебном
преследовании Грубе исходило из военного министерства и было подписано «самим»
генералом Шлейхером90. Любопытно, что имперский прокурор в своем
письме в суд Аль-тоны, где позднее проживал обвиняемый, полностью подтвердил
правильность сведений, содержавшихся в статье, но рекомендовал поставить Грубе
вопрос; знает ли он, что в зарубежных странах внимательно изучают немецкие
газеты, стремясь
----------------------
88 W. Hagemann. Deutschland
am Scheideweg. Gedanken zur Aussenpolitik.
89 В
особенности отличались этим военные представители Англии и США. Вот что писал, например, английский
военный атташе Маршал-Корнуол в докладе, датированном 9 декабря
90 ЦГАОР, ф. 567, on. I, ед. хр.
346
удостовериться в невыполнении Германией Версальского
Договора?91 Грубе избирался депутатом рейхстага несколько созывов
подряд, и дело было прекращено за истечением срока давности.
Другое «преступление» заключалось в публикации статьи,
разоблачавшей связи фашистских военных организаций с рейхсвером. И вновь
преследование было возбуждено (на этот раз против автора указанной статьи)
письмом Шлейхера. Гнев его вызвало то место статьи, в котором говорилось, что
рейхсвер проводит в Веймаре систематическое военное обучение членов «Стального
шлема». Характерно, что даже у имперского прокурора, как видно из его ответного
письма Шлейхеру, возникло серьезное сомнение в возможности возбудить на
основании этого дело по обвинению автора в государственной измене92.
Через короткое время оно и было прекращено.
Но далеко не во всех случаях исход был таков. Большей
частью, особенно когда обвинения предъявлялись лицам, не пользовавшимся
депутатской неприкосновенностью, суды выносили за антивоенные выступления
весьма тяжелые приговоры. Немало коммунистов проводили месяцы, а то и годы в
тюрьмах и крепостях за то, что они устно или печатно провозглашали слово правды
о готовившемся германскими империалистами и милитаристами преступлении перед
немецким и другими народами. Но запугать коммунистов нельзя было. «Ничто не
помешает нам,— воскликнул в рейхстаге депутат КПГ Киппенбергер,— как и прежде,
и в большем масштабе, разоблачать тайные вооружения перед широкой
общественностью» 93.
Помимо коммунистов, интенсивную борьбу против германского
милитаризма вела группа левобуржуазных публицистов во главе с К. Осецким.
Редактируемый им журнал «Вельтбюне», на страницах которого систематически
печатались статьи антимилитаристского характера, был буквально «бельмом на
глазу» германской военщины. Еще в
Осуждения Осецкого настойчиво добивался тогдашний
военный министр Грёнер. Целью военщины, как откровенно писал он в письме
Брюнингу от 10 сентября
------------------------------
91 Там же,
л. 15.
92 ЦГАОР,
ф. 567, оп. 1, ед. хр.
93 «Verhandlungen des Reichstags»,
Bd. 445, S. 1735.
347
мирной конференции по разоружению. Грёнер выражал тревогу насчет того, что
«распространяемый французами тезис об опасных вооружениях (Германии.— Л. Г.)
вновь будет подтвержден «разоблачениями» немецких пацифистов»94.
Он лицемерно сетовал на то, что в Германии якобы «создалось положение,
при котором «Стальной шлем» может быть запрещен за чрезмерную критику
правительства, а в то же время во многих случаях отсутствуют необходимые
средства, чтобы пресечь деятельность таких изданий, как «Другая Германия»
(журнал, издававшийся противниками войны и милитаризма.— Л. Г.)»95.
Процесс над Осецким в ноябре
Германские империалисты, успешно обходившие некоторые
запреты, наложенные Версальским договором, все же тяготились необходимостью
соблюдать многие из них. Это лишало их возможности увеличить абсолютные размеры
уровня вооружений до тех пределов, которых стремилось достичь командование
рейхсвера. Отсюда постоянная борьба за легализацию вооружения, которую вели
правящие круги Германии. Важный шаг в этом направлении сделал Брюнинг,
использовавший международную конференцию по разоружению
-------------------------
94 К. Grossman. Ossietzky. Ein deutscher
Patriot. Munchen, 1963, S. 475.
95 Ibid., S. 477.
96 B. Frei. Carl
von Ossietzky. Ritter ohne Furcht und Tadel.
348
реговоров с руководителями западных держав о
ликвидации военных ограничений. Германские предложения на конференции (они были
разработаны военным министерством) исходили из того, что «национальная
безопасность» может быть обеспечена по меньшей мере паритетом с Францией
(напомним, что в те времена Франция являлась самой сильной в военном отношении
державой капиталистического мира). Чтобы добиться этого (конечно, в будущем),
Германия стремилась получить согласие своих прежних противников на изменения в
формировании и организации рейхсвера— сокращение срока военной службы (что
открывало путь к воссозданию массовой армии), создание хорошо вооруженной
100-тысячной милиции с одногодичным сроком обучения и обзаведение запрещенными
видами оружия97.
Германия уже на том этапе встретила весьма
благосклонное отношение со стороны Англии и США, с представителями которых
Макдональдом и Стимсоном Брюнинг, находясь в апреле в Женеве, обсуждал вопрос о
«равноправии» Германии в вооружениях. А в июне США и Англия договорились об
освобождении Германии от военных ограничений по истечении короткого срока
действия «конвенции по разоружению», которую предполагалось принять на
Женевской конференции98. Но в то время Франция еще противилась
возрождению германского милитаризма и отказывалась согласиться на
ремилитаризацию Германии. Попытку купить согласие Франции, предложив ей союз,
направленный против Советской страны, предпринял Па-пен на конференции по
репарационному вопросу в Лозанне (конец июня — начало июля); но тогдашний
премьер-министр Франции Э. Эррио отклонил этот проект, от которого могла
выиграть только Германия. В предвидении подобного исхода переговоров Шлейхер писал
в секретном меморандуме: если минимальные требования Германии не будут
удовлетворены, то «интересы вермахта диктуют прекращение переговоров, что
должно закономерно привести к расширению армии в духе указанных требований»99.
В этом духе и был составлен меморандум правительства
Папена по вопросу о вооружениях, опубликованный в первых числах сентября 100.
Новая отрицательная реакция Франции побудила Шлейхера перейти к практическим
шагам. Тайное вооружение проводилось в течение всего послевоенного периода, и
оно, как уже отмечалось выше, отнюдь не было секретом для
-----------------------
97 Th. Vogelsang. Reichswehr, Staat
und NSDAP, S. 430—431.
98 J. Wheeler-Bennett.
The Wooden Titan. Hindenburg in Twenty Years of German History.
99 «Vierteljahrshefte
fur Zeitgeschichte», 1959, N 2, S. 168.
100 K. Schwendemann. Abrustung und
Sicherheit, Bd. 1.
349
держав-победительниц. Но генерал Шлейхер придал
военным приготовлениям Германии гораздо больший размах.
При нем началась разработка детальных проектов
увеличения армии, включая милицию и воздушный флот. Б начале октября в Берлине
вновь открылась, правда, под маскировочным названием «берлинские офицерские
курсы», военная академия; о значении, которое придавалось этому событию,
свидетельствует присутствие и выступление Гинденбурга на торжественном акте101.
Приступил к деятельности имперский совет обороны; разрабатывались детальные
планы реорганизации и расширения армии102. В борьбе за быстрейшую
ремилитаризацию были вполне единодушны и те прослойки господствующих классов,
которые находились у власти, и те, кто пребывал формально в оппозиции,—
гитлеровцы и сторонники Национальной партии. Их объединенными усилиями в стране
с каждым днем креп милитаристский дух; националисты и шовинисты всех мастей
соревновались друг с другом в пропаганде насилия и войны как средства
устранения трудностей, с которыми сталкивался немецкий народ.
Вот красноречивый образец такого рода пропаганды.
Подкрепляя германское требование «равноправия», бывший командующий рейхсвером
Сект —не просто отставной генерал, а депутат рейхстага от Народной партии—
говорил на празднике «Стального шлема» в Верхней Баварии: «Главное —это
стремление к оружию. Все зависит от этого стремления, от решимости обороняться,
от солдатского духа, от внутренней готовности к борьбе, от фронтового духа...
На этот алтарь мы должны пожертвовать многое, расстаться со многими ценностями,
чтобы вспыхнуло пламя любви к отечеству, мужества, самоотречения, терпения,
священной воли и некоторой частицы ненависти»103. Можно не
сомневаться, что именно последнее—воспитание ненависти к другим народам — и
было главным для Секта и его единомышленников; красивые же слова о любви к
отечеству, мужестве и т. п. являлись лишь мишурой, которая должна была прикрыть
отвратительную сущность милитаризма, шедшего рука об руку с реакцией, фашизмом.
Связь этих явлений часто обусловливала и мотивировку германскими империалистами
своих реваншистских требований. Так, ратуя за введение германских войск в
демилитаризованную зону вдоль Рейна, буржуазная печать охотнее всего при-
---------------------------
101 В. Watzdorf. Die getarnte Ausbildung von
Generalstabsoffizieren in der Reichswehr 1932—1935.— «Zeitschrift fur
Militargeschichte», 1963, N 1, S. 80.
102 H. Roos. Polen und Europa.
Studien zur polnischen Aussenpolitik 1931—1939.
103 F. von Rubenau Seeckt. Aus seinem
Leben,
350
бегала, к доводу, что в этих «наиболее зараженных
большевизмом, густо населенных индустриальных местностях» одна полиция не
справится с «беспорядками» 104.
Милитаристы имели, конечно, все основания ненавидеть революционных
рабочих — убежденных борцов против агрессивных замыслов германского
империализма. В деятельности КПГ антимилитаристские выступления всегда занимали
одно из центральных мест. Борьба против опасности войны, особенно против угрозы
империалистического нападения на Советский Союз, значительно усилилась с осени
В
Ярким эпизодом борьбы коммунистов против военной
опасности в тот период были поездка Э. Тельмана в Париж и его выступление
(вместе с М. Торезом) на многотысячном митинге парижских трудящихся 31 октября.
Тельман прибыл во Францию нелегально и подвергался риску быть арестованным, но
интернациональная рабочая солидарность помогла ему избежать знакомства с
французской полицией. Его речь была направлена против версальской системы,
против национального угнетения Германии, которое являлось одной из главных
причин успехов, гитлеровцев. Германские коммунисты, сказал Тельман, отвергают
шовинизм, разжигание вражды к другим народам, гонку вооружений. В своем
ответном слове М. Торез заявил, что те немцы, которые позволяют обманывать себя
капиталистической демагогией, должны знать: революционный
----------------------
104 См. «Правда», 7.VIII 1932.
105 «Geschichte der
deutschen Arbeiterbewegung», Bd. 4, S. 375—376.
106 «Правда», 25—30.VIII 1932.
351
пролетариат Франции стоит за
ликвидацию Версальского договора 107. Митинг явился замечательным
свидетельством пролетарского интернационализма, солидарности трудящихся двух
стран.
Шесть
миллионов голосов за КПГ
Выступление Э. Тельмана в
Париже было одним из завершающих мероприятий коммунистической партии в ходе
избирательной кампании—последней в
Большое место в работе октябрьской конференции КПГ занимал и вопрос о борьбе против национализма и шовинизма. В принятых решениях подчеркивалась важность усиления пропаганды пролетарского интернационализма в противовес поджигательской демагогии нацистов. Необходимо было умножить усилия, чтобы развеять шовинистический угар, разжигание которого являлось важной заслугой гитлеровцев перед германским монополистическим капиталом.
Октябрьская конференция КПГ
завершила разгром антипартийной сектантской группы Неймана, нанесшей своей
деятельностью огромный ущерб партии. Мы уже говорили выше, что влияние этой
группы было ограничено, а Нейман устранен из секретариата ЦК КПГ. Но оно не
было еще ликвидировано полностью. В августе
На XII пленуме Исполкома
Коминтерна в сентябре
----------------------------
107 Е. Thalmann, M. Torez.
108 E. Thalmann. Im Kampf gegen die
faschistische Diktatur.
352
ветственность за недооценку
фашистской опасности после выборов в рейхстаг 14 сентября
Октябрьская конференция
означала решительную победу той линии, которая нашла наиболее полное выражение
в «Антифашистской акции» и имела целью максимально облегчить создание единого
фронта борьбы против угрозы установления гитлеровской диктатуры. В
многочисленных выступлениях боевых соратников Э. Тельмана на пленуме
антипартийная группа подверглась резкой критике. Реммеле был удален из состава
секретариата ЦК КПГ.
О существе взглядов Неймана
и его единомышленников дает весьма полное представление материал для
пропагандистов КПГ, озаглавленный «XII пленум ИККИ и всегерманская
партийная конференция». Здесь подчеркивалось, что имеющиеся в работе
партии ошибки и недостатки «частично вызваны и усилены разлагающей
деятельностью мелкобуржуазной группы Неймана... для которой характерны шатания
в противоположные стороны в принципиальных вопросах». Нейману было свойственно
непонимание политики единого фронта, неправильное отношение к профсоюзам
(выразившееся в лозунге «разбить реформистское объединение профсоюзов»), полная
неясность в оценке фашизма (отсюда метания в характеристике обстановки и
перспектив дальнейшего развития), непонимание того чрезвычайной важности
обстоятельства, что отходящие от буржуазных партий мелкобуржуазные массы
представляют весьма обширный резервуар для фашизма 111. В партийной
печати указывалось также, что Нейман выступал против лозунга «Рабочим
социал-демократам — братскую руку!», который он называл «беготней за
социал-демократами»112.
Вместе с тем, как отмечено в
«Истории германского рабочего движения», в материалах октябрьской конференции
-------------------------------------------------
109 «XII Пленум Исполкома Коминтерна», т. III. М,
1933, стр. 111—114.
110 Там же, стр. 115.
111 Фонды ГМР. 9005/3 Б445—11А,
стр. 11—12.
112 «Rote Fahne»,
22.X 1932.
353
КПГ вновь проявились некоторые взгляды,
узость которых была преодолена в практической деятельности партии, например в
обращениях окружных организаций, КПГ к соответствующим организациям СДПГ,
предложениях фракции КПГ в прусском ландтаге о совместных действиях с СДПГ и Центром, призыве ЦК КПГ об
отпоре государственному перевороту 20 июля
Тогдашние правители делали
все от них зависящее, чтобы затруднить работу КПГ, максимально осложнить ее
связи с массами. Гонения, которым подвергалась партия, уже в это время далеко
превосходили по своим масштабам и ожесточенности все, что считалось в прежние
годы «нормой» для буржуазной республики. В ноябре .
В этом убеждаешься,
познакомившись с письмом, которое в середине августа направил Шлейхеру
заместитель председателя национальной партии Шмидт. Рассуждая о наилучших
способах справиться с рейхстагом, он напоминал всесильному министру об идее
Гугенберга изменить соотношение сил в парламенте, запретив коммунистическую
партию и лишив ее представителей депутатских мандатов115. Легко
заметить, что гит-
--------------
113 «Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung», Bd. 4, S.
371—372.
114 W. Bleyer. Zur Bedeutung der Massenkampfe im Herbst
1932 fur den Sturz der
Papen-Regierung.. – «Deutsche Akademie fur Staats und Rechtswissenschaften.
Wiseenschaftliche Zeitschrift, Sonderheft 1957, S. 37.
115 0. Schmidt-Hannover. Umdenken oder Anarchie. Manner,
Schicksale, Lehren. Gottingen, 1959, S. 323.
354
леровцы, придя к власти, лишь
воспользовались чисто фашистским замыслом Гугенберга. Но в
Излюбленным орудием реакции
были запреты коммунистических изданий. Так, например, за последние пять месяцев
С особенной настойчивостью
преследовались руководящие деятели КПГ, публиковавшие собственные «преступные»
статьи или выступавшие в качестве ответственных редакторов пропагандистских
листовок, брошюр и других изданий партии. Часто ими являлись депутаты
рейхстага, пользовавшиеся неприкосновенностью; но суды без устали добивались
снятия ее с «преступников». Среди других было возбуждено дело также против
члена ЦК КПГ В. Ульбрихта, обвиненного в участии «во враждебном государству
союзе, преследующем цель уничтожения конституционного республиканского строя»117.
Это обвинение подкреплялось несколькими цитатами; вот одна из них:
«Недостаточно, однако, проводить мощные боевые демонстрации, ныне важнее, чем
когда-либо, готовить пролетариат к массовым политическим забастовкам». Ульбрихт
был приговорен к двум годам заключения в крепости; в приговоре указывалось, что
отягчающим обстоятельством признавалось заявление, сделанное обвиняемым в его
последнем слове, что «он, несмотря на все преследования, и впредь будет
отдавать все свои силы делу коммунистического движения» 118.
---------------------------------------
116 Фонды ГМР, 8956/22 Л445—11Я2.
117 ЦГАОР, ф. 567, оп. 1,
ед. хр.
118 Там
же, л. 13.
355
Эрнст Тельман, Вильгельм Пик,
Вальтер Ульбрихт, Эрнст Шнеллер, Георг Шуман и др.— эти имена стали
легендарными. Их носители, руководящие деятели Коммунистической партии
Германии,— люди, чья жизнь представляет собой яркий пример беззаветного
служения народу, непрерывной борьбы против его поработителей. Нечеловечески
трудными были условия этой борьбы, но несгибаема была когорта, возглавляемая
бывшим гамбургским рабочим Тельманом, которого тысячи людей звали просто Тедди.
Отважные борцы-коммунисты
смело отправлялись на фашистские собрания, если им предоставлялась возможность
выступить там с изложением позиции КПГ. В таких случаях дело нередко кончалось
стычками. Вот что мы читаем в очерке прогрессивного журналиста А. Габора:
«Спокойно и деловито товарищ
Ульбрихт разбивает, пустую болтовню тех, кто выступал перед ним. Просто и ясно
ставит он нацистам вопросы, так что у них не остается никаких лазеек...
Нацистам становится не по
себе, они не привыкли слышать подлинные, деловые аргументы. Весь зал находится
под влиянием товарища Ульбрихта. Затем на трибуну поднимается Геббельс. Ему
кричат: «Убийца рабочих!» А внизу, в зале его люди уже начали побоище... В
центре штурмовики образовали круг и бросают оттуда во все стороны стулья и
отломанные, от столов ножки. Возникает неописуемый беспорядок. В одно мгновенье
— повсюду залитые кровью лица, неподвижно лежащие люди. Слышны лишь крики и
глухие удары.
Полиция пробивается в зал и
начинает со зверской грубостью вытеснять оттуда рабочих» 119.
Чем ближе были выборы, тем
яснее становилось, что коммунистическая партия находится на подъеме. Об этом
свидетельствовал, в частности, грандиозный митинг КПГ в наибольшем зале Берлина
Спортпаласте, состоявшийся 1 ноября. Эрнст Тельман, лишь за день до этого
выступавший в Париже, передал собравшимся горячий привет от их братьев по
классу из Франции и вновь уделил серьезнейшее внимание национальному вопросу.
Он показал, что вся героическая история Коммунистической партии Германии
неразрывно связана с борьбой против Версальского договора. Но в отличие от гитлеровцев,
которые зовут к войне как единственному средству избавиться от цепей Версаля,
коммунисты, говорил Тельман, добиваются ликвидации национального угнетения
посредством социального освобождения трудящихся масс120. Германские
коммунисты были единственной политической силой в стране,
-----------------
119 A. Gabor. Der rote Tag ruckt naher. Berlin, 1959, S.
139—141.
120 «Rote Fahne», 3.XI 1932.
356
которая отстаивала подлинные национальные
интересы немецкого народа, ведя борьбу против подготовки реваншистской войны,
шовинизма и человеконенавистничества фашистов и их покровителей. «Гитлер — это
война!» — предупреждали коммунисты, хотя они еще не могли в то время
предугадать всю глубину национальной катастрофы, явившейся результатом
осуществления гитлеровских идей на практике.
В самом конце октября —
начале ноября предвыборная борьба обострилась в результате события,
всколыхнувшего всех жителей Берлина. В числе предприятий, рабочие которых
участвовали в забастовках осени
Вопреки воле руководства
профсоюза, 2 ноября состоялось голосование по вопросу о том, принимать или
отклонить «третейское» решение о понижении зарплаты. Из 18537 человек,
участвовавших в голосовании, 14 471, т. е. огромное большинство, высказались за
отклонение и за немедленное объявление забастовки. В тот же день было создано
Центральное стачечное руководство, в состав которого вошли представители
различных партий и беспартийные. Комитеты единства, существовавшие во всех
отделениях, теперь превратились в органы руководства стачкой на местах121.
И утром 3 ноября берлинцы, выйдя на улицу, не увидели ни трамваев, ни
автобусов. Перед всеми депо были выставлены забастовочные пикеты.
----------
357
Стачка берлинских
транспортников, ставшая одним из важнейших событий классовой борьбы этих лет в
Германии, началась.
Нет сомнений, что, поднявшись в тот момент на
борьбу, рабочие столичного городского транспорта отнюдь не ограничили свои цели
двумя пфеннигами; нет, их выступление должно было показать правящим кругам
решимость германского рабочего класса сорвать реакционные планы правительства
Па-пена, нанести «кабинету баронов» серьезный удар. В своем развитии забастовка
не могла не принять особенной остроты именно как политическое выступление: ведь
ареной борьбы была резиденция реакционного правительства, которое считало себя,
безусловно, хозяином положения и только три месяца назад торжествовало
бескровную победу над берлинскими рабочими. А теперь вся жизнь в столице была
дезорганизована, и попытки полиции наладить какое-то подобие движения кончались
провалом.
Озлобленная полиция свирепствовала.
В первый день стачки было арестовано 420 человек, в один из последующих
— более 1000, Многие из них подвергались «скоростной процедуре» суда; приговоры
были настолько тяжелы и несправедливы, что даже социал-демократический
«Форвертс» вынужден был признать их «чрезмерными». Судьи, оправдывавшие
фашистских убийц, сажали рабочих в тюрьму на 2 — 2 ½ года за брошенный
в полицейского камень 122.
Но транспортники не дали
запугать себя. Они ощущали солидарность пролетариев всей Германии, оказавших материальную
помощь и моральную поддержку. Забастовка не могла бы продлиться ни одного дня,
если бы не позиция, занятая безработными. Не только не было штрейкбрехерства,
но, наоборот, безработные вместе с бастующими боролись против попыток
реформистов сорвать стачку. Не менее важна была реакция других слоев населения
Берлина, которое испытывало значительные неудобства и, казалось, должно было
негодовать против «смутьянов». В действительности же население в своей массе
стало на сторону забастовщиков, отказываясь пользоваться теми трамваями и
автобусами, которые полиции удавалось выпустить на линию. Даже нацисты
вынуждены были примкнуть к забастовке. О причинах этого Гитлер говорил
Гинденбургу следующее: «Люди очень недовольны. Если бы я удержал моих людей от
участия, то стачка все равно состоялась бы, но я потерял бы своих сторонников
среди рабочих»123.
---------------------------
122 «Vorwarts», 9.XI 1932. На заседании
имперского кабинета 3 ноября Брахт доложил о мероприятиях по удушению
забастовки. Одним из них был запрет «Роте фане» до 12 ноября и предотвращение
выхода какого-либо издания взамен нее (DZAP, Reichskanzlei,
Kabinettssitzungen, N 755, Bl. 791121).
123 «Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft», 1958, H. 3, S.
551.
358
А Геббельс записал в своем дневнике: «Стоит только потерять рабочего
один раз, как он потерян навсегда».
Фашисты поддержали забастовку
исключительно из предвыборных соображений; они с самого начала стремились
подорвать единство бастующих, создав собственный стачечный комитет, выступили
против распространения забастовки на газовые заводы и водопровод, заявляя, что
это придаст борьбе политический характер. А на следующий день после выборов в
рейхстаг гитлеровцы штрейкбрехерски отошли от забастовки. «Стачка на берлинском
транспорте... стала безнадежным делом,— записал Геббельс в своем дневнике уже 7
ноября.— Речь идет только о том, чтобы каким-нибудь образом закончить ее»124.
Участие в забастовке не принесло нацистам популярности; именно в Берлине их
потери на выборах оказались едва ли не максимальными. Антирабочую сущность
нельзя было замаскировать никакими маневрами. А какова была эта сущность, видно
из выступления нацистского лидера полковника в отставке Хирля: «Естественно,
что положения о тарифе, рабочем времени и т. п. не найдут в трудовой повинности
никакого применения... Порожденная либерализмом и марксизмом материалистическая
точка зрения, под влиянием которой любая работа рассматривается под углом
зрения заработка, должна исчезнуть из голов»125. Яснее о том, чего
добивались нацисты, сказать, пожалуй, нельзя было.
Стачка рабочих городского
транспорта германской столицы продолжалась до 8 ноября и закончилась частичным
успехом. Достичь полной победы помешали, прежде всего, поведение реформистских
лидеров, а также слабости в работе компартии. Эти причины были указаны в
выступлениях Э. Тельмана и В. Ульбрихта на состоявшейся вскоре конференции
берлинской организации КПГ. Партия приложила большие усилия, чтобы провести
стачки солидарности на предприятиях Берлина. «На всех заводах,— говорилось в
одной из листовок, обращенных к пролетариям столицы,— надо обсудить
благоприятную ситуацию, созданную стачкой транспортников. Свяжите свою
собственную борьбу с борьбой транспортных рабочих»126. Но ощутимых
результатов эти обращения, к сожалению, не имели.
Тем не менее, берлинская
стачка была, по словам Тельмана, «важнейшим до сего времени позитивным
революционным достижением нашей партии»127. Она была ярчайшим
свидетельством того, что боевой дух германского рабочего класса не угас. «Пять
дней забастовки преподали нам большие уро-
-------------------
124 J.
Gobbels. Vom Kaiserhof
zur Reichskanzlei. Berlin, 1934, S. 198.
125 ЦПА
ИМЛ, ф. 215, on. 1, ед. хр. 89.
126 Фонды
ГМР, 9014/4 Д445—4з.
127 «Rote
Fahne», 24.XI 1932.
359
ки,— заявило центральное забастовочное
руководство в листовке, выпущенной сразу после событий.— Наша борьба показывает
трудящимся Берлина, какая могучая сила просыпается в пролетариате, когда он
един» 128. Это был урок не только для берлинцев, но и для трудового
народа всей Германии, урок предельно наглядный и оказавший на многих серьезное
влияние.
Берлинская стачка, как мы
знаем, была отнюдь не изолированным явлением, а кульминационным пунктом
многонедельной забастовочной волны, которой сопутствовал подъем массового
движения, направленный против разных форм наступления монополий — снижения
пособий по безработице, болезни, инвалидности, повышения квартирной платы и т.
п. В эти выступления были втянуты широкие слои населения, и в ходе борьбы они с
особенной отчетливостью увидели революционные возможности пролетариата. В. Пик
писал позднее, что «колеблющаяся мелкая буржуазия начала ориентироваться на
борющихся рабочих. Подтвердилось ленинское учение о том, что пролетариат своей
революционной активностью может увлечь на революционный путь промежуточные
классы»129. Подтвердилось, что борьба за классовые интересы
пролетариата в условиях общего кризиса капитализма неразрывно связана с борьбой
за общедемократические и общенациональные интересы.
События осенних месяцев, в
особенности берлинская забастовка, сигнализировали монополистам о том, что
социал-демократические и профсоюзные лидеры часто уже не в состоянии
предотвращать крупные классовые бои. Вот что говорилось, например, в передовой
«Дейче альгемейне цейтунг» от 4 ноября: «Полное прекращение работы берлинского
городского транспорта в результате «дикой» забастовки... является чрезвычайно
прискорбным событием». Газета подчеркивала, что такая, «не санкционированная
профсоюзными лидерами, но не предотвращенная ими, вызванная политическими
причинами забастовка» напоминает «худшие времена» (имелась в виду Ноябрьская
революция
-------------------
128 Фонды ГМР, 9014/18 Д445—4з.
129 «XIII пленум Исполкома Коминтерна,
Стеногр. отчет». М., 1934, стр. 45. В письме от 8 декабря, адресованном
в министерство внутренних дел, гитлеровский гаулейтер Тюрингии Заукель с
тревогой сообщал, что представители средних слоев угрожают переходом в КПГ,
если в ближайшее время ничего не будет сделано, чтобы улучшить их положение (W.
Bleyer. Zur Bedeutung der Massenkampfe
im Herbst 1932..., S. 37).
360
лизма»130. Германская буржуазия,
в общем, предвидела подобное падение авторитета реформистской верхушки и на
этот случай готовила резервную силу в лице гитлеровской партии. Соображения
заправил капиталистического лагеря были откровенно изложены осенью
Это стало особенно очевидно в
результате выборов 6 ноября, которые выявили существенные изменения в
соотношении классовых сил. Главным из них была крупнейшая победа
коммунистической партии, вновь завоевавшей на свою сторону сотни тысяч
сторонников и собравшей в общей сложности почти 6 млн. голосов. В новом
рейхстаге компартия имела 100 депутатов. Успех КПГ был закономерным итогом
огромной работы, развернутой летом и осенью
Выборы еще резче, чем ряд
предыдущих, обнаружили падение влияния социал-демократии, которой не могла
помочь даже
--------------------------------
130 DZAP, Reichsministerium des Innern, N 26153, Bl. 53. На
заседании имперского правительства 25 ноября Гайль обращал внимание
своих коллег на успехи единого фронта в Саксонии (Ibidem, Reichskanzlei,
Kabinettssitzungen, N755, Bl. 791213).
131 «Коричневая книга о поджоге рейхстага и гитлеровском
терроре». М., 1933, стр. 27.
361
словесная «оппозиция» по отношению к
правительству. Многие рабочие покидали эту партию, утратившую все, что прежде
вдохновляло их, превратившуюся в «запасную команду» буржуазии,
призванную держать негодующие массы в узде. Социал-демократия получила 7,2 млн.,
голосов и по числу мандатов в рейхстаге лишь ненамного превосходила компартию.
Вторым важнейшим итогом
выборов были крупные потери гитлеровцев. Они собрали на два с лишним миллиона
голосов меньше, чем 31 июля. Беспочвенной оказалась похвальба, на которую были
так щедры фашисты. Вот что говорил, например, шеф печати нацистской партии О.
Дитрих в интервью, данном 3 ноября: «Национал-социалистская партия добьется 6
ноября наибольшего и самого впечатляющего успеха за всю историю
национал-социалистского движения» 133. О том же шла речь в пропагандистском
материале нацистов от 27 октября
Падение популярности
гитлеровцев явилось фактором первостепенной политической важности. ЦК КПГ в
своем заявлении по поводу выборов подчеркнул это, указав, что начавшийся упадок
фашизма — прежде всего результат подъема массового антифашистского движения под
знаменами единого фронта.
Выборы принесли некоторую
передвижку и в соотношении сил «старых» буржуазных партий. Если партия Центра
потеряла 350 тыс. голосов, то Национальная партия сумела выиграть почти 800
тыс. избирателей и получила 52 мандата вместо 37 в предыдущем рейхстаге. Это
объяснялось переходом к националистам части приверженцев гитлеровской партии,
потерявших веру в ее конечный успех. Другие буржуазные партии,
-----------------------------------------
132 DZAP, Nurnberger Prozesse, Fall XI, N 264, Bl. 32.
133 «Ausgewahlte Dokumente zur Geschichte des
National-sozialismus», 1933— 1945, Bd. II. Bielefeld, 1961.
134 R. Miller. Die Lage und der Kampf der
mecklenburgischen Landarbeiter... Rostock, 1954, S. 54; W. Bleyer. Zur
Bedeutung der Massenkampfe im Herbst 1932..., S. 33.
362
наоборот, не сумели оправиться от
понесенных потерь и по существу превратились в ничтожные группки, не
игравшие больше никакой политической роли.
Итоги выборов породили у всех
поборников демократии, у всех противников реакции и фашизма надежды на
благоприятный исход политического кризиса. Но одновременно они — и
направление развития событий в целом —встряхнули реакционный лагерь,
активизировали поиски его представителями путей к консолидации ультраправых сил135.
А это создавало грозную опасность для всего, что с таким упорством отстаивали
сторонники республики.
---------------------
135 «100 коммунистов в германском
рейхстаге,—писала «Дейче альгемейне центу иг»,—это грозное предзнаменование
для государственного руководства». В том же духе высказывалась и буржуазная
печать США. «Победа коммунистов на выборах вселяет тревогу»,—комментировал
итоги орган Уолл-стрита «Джорнал оф Коммерс». А газета «Нью-Йорк Геральд Трибюн»
(от 13 ноября) сетовала на усиление демократических сил и утверждала, что их
растущая мощь «должна привлечь внимание государственных деятелей Западной
Европы». Эго был недвусмысленный призыв к вмешательству на стороне германских
реакционеров.
363
УСТАНОВЛЕНИЕ ГИТЛЕРОВСКОЙ ДИКТАТУРЫ
Требования монополистического капитала
Для правительства Папена
результаты выборов означали неминуемое поражение при первой же встрече с новым
рейхстагом. Положение «кабинета баронов» сильно пошатнулось, хотя
поддерживавшая его Национальная партия и находилась в числе выигравших от
выборов. Но главное, конечно, было не в соотношении парламентских мест —оно
служило лишь отражением более глубоких явлений, а в том массовом движении,
которое вспыхнуло в ответ на мероприятия правительства и продолжало крепнуть.
Это движение нанесло реакции ощутимый удар, заставило господствующие классы
искать обходные пути для осуществления своих целей.
Вопрос «как быть дальше»
возник на первом же заседании кабинета после выборов — 9 ноября. Уже витала
мысль об отставке правительства. Отвергая ее, Гайль, как уже не раз прежде,
рекомендовал идти напролом; вновь распустить рейхстаг и править, уже совершенно
не считаясь с конституцией'. Против этого возразил Шлейхер, по мнению которого,
следовало соблюдать осторожность. Он советовал вновь обратиться к Гитлеру с
целью достичь какого-либо соглашения с нацистской партией. Предложение было
принято, и в соответствии с ним Папен обратился к фашистскому «фюреру» с
открытым письмом; но каковы были цели Шлейхера, когда он советовал вступить на
подобный путь, можно лишь догадываться. Не подлежит сомнению, что он понимал
обреченность своего «детища» —правительства Папена — и не видел никаких
оснований помогать своему ставленнику удерживаться у власти, к которой
стремился сам.
В своем письме, датированном
13 ноября, Папен, как мы видели, в ходе избирательной кампании весьма
нелицеприятно отзывавшийся о Гитлере, вновь рассыпался в любезностях
фашистскому «фюреру». Он предлагал ему встретиться для обсуж-
-------------------------
1 DZAP, Reichskanzlei, Kabinettssitzungen,
N 755, Bl. 791162—791163.
364
дения возможности создания «национальной
концентрации»2. Как и ожидал Шлейхер, Гитлер ответил отказом;
ссылаясь на несчастливый для него опыт 13 августа, он вообще отвергал устные
переговоры, соглашаясь вести их только в письменной форме, да и то обставляя
оговорками. 17 ноября этот документ рассматривался на заседании кабинета, и
большая часть его членов высказалась за отставку, которая, в тот же день была
вручена Гинденбургу. Закончилось бесславное полугодовое правление клики
реакционеров, лишенных какой-либо опоры, помимо штыков.
Правительственный кризис
оказался весьма затяжным; это обусловливалось сложностью обстановки, остротой
классовых противоречий и разногласий различных групп монополистического
капитала. Германская буржуазия попала в трудное положение, ибо ее прежняя
социальная опора— социал-демократия явно сходила на нет. Новая же массовая база
в лице гитлеровской партии оказалась в состоянии депрессии; в то же время в
стране нарастало массовое движение против реакции и фашизма. Этим обусловлен
длительный торг в правящем лагере, который привел лишь к промежуточному
решению.
С 18 ноября начались беседы
Гинденбурга с лидерами буржуазных политических партий, первым из которых был
председатель Национальной партии Гугенберг, чья помощь решающим образом
способствовала возвышению нацистской клики. Он высказался за создание
нового «президиалыгого» правительства, а на вопрос президента, как он
представляет себе персональный состав кабинета во главе с Гитлером, ответил,
что у него серьезные сомнения относительно предоставления последнему поста рейхсканцлера.
«Я не обнаружил у Гитлера,— жаловался его главный партнер,— большой верности
своим обязательствам; весь его подход к политическим вопросам -крайне
затрудняет передачу Гитлеру политического руководства»3. Эта
красноречивая оценка приобретает особый интерес потому, что она была дана лишь
за два с небольшим месяца до вступления Гугенберга в кабинет Гитлера.
Точка зрения партии Центра,
изложенная Гинденбургу ее председателем Каасом, в общем совпадает с тем, что
политические лидеры германского католицизма предлагали уже после увольнения
Брюнинга в отставку: немедленное привлечение гитлеровцев к участию в имперском
правительстве и создание некоего «национального блока», в который Центр охотно
вошел бы. С тех пор прошли месяцы напряженной социальной борьбы, в ходе которой
политический и моральный облик гитлеровской
-------------------
2 «Trial of the Major War Criminals before
the International Military Tribunal», vol. XXXV. Nuremberg, 1948, p. 223.
3 «Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft»,
1958, H. 3, S. 546.
365
партии раскрылся еще яснее и полнее.
Вспомним переворот в Пруссии, осуществленный в немалой степени по наущению
нацистов, оголтелый фашистский террор, обращенный, хотя и в меньшей степени,
также против партии Центра и т. д.
Тем не менее, Каас
безоговорочно выступал в пользу назначения Гитлера рейхсканцлером и образования
коалиции от Центра до нацистов. «Мы хотим идти не назад, а вперед»,— заявил он.
А в понимании католических «демократов» это означало нежелание «вновь впасть в
парламентаризм»4. Такова же была позиция представителей этой партии
на переговорах с гитлеровцами, возобновившихся после выборов; деятели Центра
соглашались с тем, чтобы Гитлер возглавил правительство. Так люди, не
перестававшие твердить о боте и морали, делали все от них зависящее, чтобы
ускорить установление самой антигуманистической власти в истории человечества.
Подобной же готовностью к
безоговорочному сотрудничеству с нацистами отличались высказывания председателя
Народной партии Дингельдея и главы Баварской народной партии Шефера (после
второй мировой войны — ближайший сотрудник Аденауэра и долголетний министр боннского
правительства). Еще более откровенен был Шефер в беседе с Папеном за три дня до
приема у Гинденбурга. «Он полагает,— говорится в протоколе этой беседы,
хранящемся в архиве,— что необходимо побудить национал-социалистскую партию к
участию в правительстве, даже если придется с этой целью назначить Гитлера
рейхсканцлером». Как обычно, это снабжалось оговорками, что следует «не
предоставлять национал-социалистам слишком много власти»5.
19 ноября Гинденбург принял
Гитлера, как обычно настаивавшего на передаче ему политического руководства и
на все лады расписывавшего «коммунистическую угрозу», которая якобы не позже
февраля
Тем не менее 21. ноября
Гитлер вновь был гостем президента, который заявил, что «питает очень много
уважения к лич-
--------------------------
4 «Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft»,
1958, Н. 3, S. 548.
5 DZAP, Biiro ties Reichsprasidenten, N 47,
Bl. 214.
6 «Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft»,
1958, H. 3, S. 551.
366
ности господина Гитлера и к значительной
части его идей»7. Впервые Гитлеру было официально предложено
попытаться сформировать правительство. Таким образом, фашистская угроза, уже в
течение двух с лишним лет представлявшая собой предмет серьезнейших опасений
всех подлинных демократов, приблизилась вплотную. На этот раз она еще не стала
реальностью, но произошло это не из-за отпора со стороны противников фашизма, а
прежде всего потому, что правящие круги не сошлись с гитлеровцами в определении
статуса будущего правительства. Гинденбург предпочитал, чтобы оно опиралось на
большинство рейхстага, а Гитлер стремился стать во главе «президиального»,
независимого от рейхстага, кабинета.
Различие точек зрения
определилось в переписке между Гитлером и Мейсснером в 20-х числах ноября.
Очень важна мотивировка отказа президента, сформулированная в последнем письме
Мейсснера: «Он (т. е. Гинденбург) не может обосновать перед немецким народом
предоставление своих президиальных полномочий вождю партии, которая снова и
снова подчеркивала свою исключительность... Президент республики не может,
поэтому не опасаться, что руководимый Вами президиальный кабинет неизбежно
превратится в диктатуру партии со всеми последствиями этого в смысле обострения
противоречий в немецком народе»8. Эти слова вновь, и особенно
наглядно, подтверждают, что правящие круги отлично знали, каковы будут
последствия передачи власти нацистам.
Между тем вплоть до
сегодняшнего дня западногерманская историография оперирует тезисом о
«неведении» господствующих классов Германии в отношении сущности нацизма. Она
опирается, вероятно, на свидетельства таких современников событий, как,
например, бывший глава контрреволюционного «добровольческого» соединения
Россбах; в своих воспоминаниях он пишет: «Буржуазные партии противостояли национал-социализму,
не имея о нем никакого представления»9. Поистине беспримерное
лицемерие! Нет нужды возвращаться .к соответствующим фактам, а они
насчитывались тысячами и у каждого непредвзятого наблюдателя не оставляли
никаких сомнений в намерениях нацистов (да и последние не делали из этого
особой тайны).
Даже в своих выступлениях,
призванных пропагандировать версию легальности борьбы нацистов за власть,
Гитлер нередко добавлял: «Головы покатятся в песок». Деятель Национальной
-----------------------------
7 W.
Hubatsch. Hindenburg und der Staat. Gottingen, 1966, S. 353.
8 «Jahrbuch
des offentlichen Rechts der Gegenwart», Bd. 21. Tubingen, 1934, S. 170.
9 G.
Rossbach. Mein Weg durch die Zeit. Weilburg-Lahn, 1950, S. 114. Россбах явно
противоречит самому себе: двумя строками ниже он отмечает, что «при этом
втихомолку (!) радовались, что кто-то борется против «злых» коммунистов».
367
партии Клейст-Шменцин выпустил в
Переговоры были прерваны, но
ни для кого не составляло секрета, что они возобновятся, может быть в самое
ближайшее время. Необходима была величайшая бдительность ко всем проискам
реакции. С момента отставки Папена коммунистическая партия била тревогу. «Мы
должны,— подчеркнул Э. Тельман, выступая 20 ноября на берлинской конференции
КПГ,— бить в набат на предприятиях и биржах труда против грозящей коалиции с
участием Гитлера или открытой военной диктатуры... Мы обязаны добиться того,
чтобы массы осознали всю серьезность положения»12. В связи с резким
усилением фашистской угрозы ЦК КПГ опубликовал новый страстный призыв к
созданию боевого единства всех трудящихся. В воззвании указывалось, что
реакционная диктатура нужна господствующим классам в первую очередь для
подготовки войны против других народов, о чем свидетельствуют, в частности,
требования военщины добиться введения всеобщей воинской повинности13.
Коммунистическая печать
сообщала о крупных демонстрациях в таких промышленных центрах, как Гамбург,
Дюссельдорф и др. Эти демонстрации состоялись, несмотря на запрет в
соответствии с законом о «гражданском мире», введенный 2 ноября
А в то же время за кулисами в
глубокой тайне разыгрывался следующий акт заговора реакции. «Общее стремление
промышленников,—рассказал после второй мировой войны бан-
--------------
10 «Ausgewahlte Dokumente zur Geschichte des
Nationalsozialismus 19331945», Bd. II. Bielefeld, 1961.
11 F. Meinecke. Politische Reden und Schriften. Darmstadt,
1958, S. 462.
12 «Rote Fahne», 24.XI 1932.
13 «Rote Fahne», 19.XI 1932.
14 «Rote Fahne», 22.XI 1932.
368
кир фон Шредер, одна из колоритнейших
фигур международного капитала, эсэсовец и глава германо-англо-американского
банка,— заключалось тогда в том, чтобы увидеть у власти в Германии сильного
фюрера... Когда б ноября
Автор биографии Шахта,
опубликованной в фашистские времена, не преувеличивал заслуги своего «героя»,
утверждая, что его доля в окончательной победе гитлеровской партии весьма
велика18. Действительно, Шахт развил в эти дни лихорадочную
активность в пользу нацистов. Он писал об этом Гитлеру 12 ноября19.
А уже 19 ноября петиция крупнейших промышленников, адресованная Гинденбургу,
поступила в канцелярию последнего. Чтобы придать документу большую значимость,
он был оформлен как ряд отдельных писем, содержавших одинаковый текст. Проект
этого обращения обнаружили после окончания второй мировой войны, и он
фигурировал в качестве документа на Нюрнбергском процессе главных немецких
военных преступников. Но защитники обвиняемых, а вслед за ними профашистски
настроенные журналисты и историки пытались доказать, будто проект остался лишь
проектом и не был отправлен по адресу. Эти старания снять с магнатов бизнеса
хоть какую-то долю исторической вины за установление гитлеровской диктатуры
провалились. В
«Мы видим в национальном
движении, охватившем наш на-
--------------------------------
15 G. W. F. Hallgarten. Hitler, Reichswehr und Industrie.
Frankfurt a/M., 1955, S. 116.
16 Th. Vogelsang. Reichswehr, Staat und NSDAP. Stuttgart,
1962, S. 213.
17 E Czichon. Wer verhalf Hitler zur Macht? Koln, 1967,
S. 65-66.
18 F. Reuter. Schacht. Stuttgart — Berlin, 1937, S.
113—114.
19 «Trial of the Major War Criminals…», vol. XXXV, p. 536.
369
род,— говорилось в письмах,—
многообещающее начало эры, в ходе которой, благодаря преодолению классовых
противоречий, будут созданы необходимые основы для возрождения немецкой
экономики». И далее выдвигалось требование предоставить «крупнейшей группе
этого национального движения (речь шла о гитлеровской партии.— Л. Г.) руководящее
участие в правительстве»20. Петицию, в числе других, подписали
Тиссен, Шредер, директор «Дейче банк» Рейнгардт, один из крупнейших монополистов
Рура Ростерг, владельцы пароходных компаний Верман и Бейндорф, председатель
союза юнкеров «Ландбунд» Калькрейт и др. К документу всецело присоединились
такие «акулы» тяжелой промышленности Рура, как Феглер, фактически управлявший
крупнейшей металлургической монополией Германии
— «Стальным трестом», Рейш и Шпрингорум; об этом было сообщено
Гинденбургу отдельным письмом21.
Таким образом, сильные мира
сего, не ограничиваясь обычными методами воздействия на главу государства,
решили, что настало время для экстраординарных мер. Нет сомнений, что обращение
от 19 ноября оказало огромное влияние на дальнейший ход событий22.
По словам О. Мейсснера, одного из наиболее близких к Гинденбургу лиц, письма
промышленников произвели на последнего сильное впечатление23. О том
же сообщает и сопредседатель «Стального шлема» Дюстерберг, вхожий к президенту24.
Свидетельство Дюрстерберга особенно ценно, ибо «Стальной шлем» в тот
момент еще всецело поддерживал Папена, предлагая поручить формирование нового
правительства именно ему.
Сближению «стальных королей»
с гитлеровцами способствовало событие, имевшее место еще летом
------------------------
20 DZAP, Buro des Reichsprasidenten, N 47, BI. 258—305.
21 «Zeitschrift fur Geschichtswissetischaft», 1956, H. 2, S.
367.
22 С теми же предложениями к Гинденбургу обращались также
различного рода реакционные организации и частные лица, настроенные
профашистски. В Центральном немецком архиве в Потсдаме, в числе других,
хранится письмо некоего «Евангелического боевого союза борьбы за германизм и
христианскую веру», датированное 22 ноября. Ратуя за предоставление власти
Гитлеру, руководители этого союза утверждали, что «свободомыслящий марксизм
никогда не будет преодолен в Германии, если великое национальное движение (так
богобоязненные евангелисты именовали фашистские банды.— Л. Г.) будут ослаблять
иди даже пытаться сломить посредством всякого рода сдерживающих
мероприятий» (DZAP, Buro des Reichsprasidenten, N 47, Bl.
23 H.-O. Meissner, H. Wilde. Die Machtergreifung. Stuttgart, 1958, S. 228.
24 Th. Dusterberg, Der Stahlhelm und Hitler. Wolfenbiittel
und Hannover, 1949, S. 37.
370
последнего35. С переходом
Гельзенкирхенских заводов в руки государства еще более, чем когда-либо,
возросла заинтересованность крупных промышленников —акционеров Стального треста
— в установлении «сильной власти». 4 Как раз в ноябре
К этому времени существенно
изменилась и позиция другого крупнейшего германского концерна — «ИГ
Фарбениндустри». Взаимопонимание главной химической монополии Германии с
фашистами было результатом совместной заинтересованности в расширении
военных приготовлений. Речь шла о целесообразности дальнейших (весьма
дорогостоящих) работ по промышленному производству синтетического горючего,
которые проводила «ИГ Фарбениндустри». В условиях глубокого экономического
кризиса кое-кто из руководителей треста был склонен прекратить эти работы;
продолжать их имело для монополий смысл только в том случае, если бы Германия
приступила к форсированному вооружению.
И вот в ноябре
------------------
25 G. W. F. Hallgarten. Hitler, Reichswehr und Industrie, S. 107
ff.; G. Volkland. Hintergrunde und politische Auswirkungen der
Gelsenkirchen-Affare im Jahre 1932.—«Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft»,
1962, H. 3.
26 H. Luther. Vor dem Abgrund. Berlin, 1964, S. 271.
27 «Trials of War Criminals before Nuremberg Military
Tribunals», vol. VII. Washington, 1951, p. 120.
28 Ibid., p. 16, 538—539.
29 Г. Л. Розанов. Германия под властью фашизма. М., 1961,
стр. 46.
371
Правда, Папен, очевидно, не
помышлял об уходе. Наоборот, он полагал, что сумеет заняться осуществлением
«реформы» конституции, иными словами — ее окончательным устранением. Дело уже
не ограничивалось традиционными пунктами — повышением возрастного ценза на
выборах, введением второй палаты и т. п. Из документов видно, что обсуждались
конкретные планы запрещения забастовок на «жизненно важных предприятиях», под
которые при желании можно было подвести любой мало-мальски крупный завод. В эти
последние дни ноября Папен обратился к генералу Штюльпнагелю с предложением
занять пост военного министра (при «живом» Шлейхере); но он, добавлял Папен,
должен быть готов к применению оружия против соотечественников30.
И в своих показаниях на
Нюрнбергском процессе, и в мемуарах Папен неизменно стремился создать
впечатление, будто речь шла о подавлении не только «опасности слева», но и
угрозы со стороны нацистов. Это ложь: разногласия с гитлеровцами, имевшиеся у
правящих кругов, преодолевались не с помощью оружия, а в закулисных
переговорах. А репрессии против коммунистической партии и поддерживавших ее
организаций становились с каждым днем все более свирепыми. И именно с целью
борьбы против возросшего и продолжавшего расти влияния КПГ были задуманы те
чрезвычайные меры, которые Папен в конце ноября предложил Гинденбургу. Они не
были, однако, приняты, ибо события последнего времени, особенно транспортная
забастовка в Берлине, показали, что шансов подавить массовое движение лишь при
помощи штыков, не имея никакой опоры в народе, очень мало.
Именно так поставил вопрос
Шлейхер, стремившийся избежать прямого участия рейхсвера в карательных акциях и
имевший в виду использовать наметившиеся разногласия с Папеном для устранения
последнего и создания правительства под своим руководством. В конце ноября
военное министерство вместе с министерством внутренних дел провело по указанию
Шлейхера трехдневную военную игру, которая должна была дать ответ на вопрос,
можно ли справиться с революционным движением в случае объявления всеобщей
забастовки. Ответ был отрицательным, в частности потому, что прекращение
железнодорожных перевозок совершенно парализовало бы рейхсвер, в то время почти
не моторизованный31. Об этом сообщил на заседании правительства 2
декабря один из ближайших сотрудников военного министра, подполковник Отт.
------------------------------------
30 Th. Vogelsang. Reichswehr, Staat und NSDAP, S. 325; F.
von Papen. Vom Scheitern einer Demokratie. Mainz, 1968, S. 170.
31 В. Н. Liddel Hart. The Other Side of the Hill. London, 1948,
p. 89; G. Castellan. Von Schleicher, von Papen et l'evenement de
Hitler.— «Cahiers d'histoire de la guerre», 1949, N 1, p. 23—25. Буржуазные
историки ФРГ (Конце,
372
Правда, Папен после заседания
отправился к Гинденбургу и еще раз пытался склонить его идти напролом. Папен
сказал президенту, в частности: «Я не верю, что весь рабочий класс решится
участвовать во всеобщей забастовке... Уже 20 июля он отверг этот путь»32.
Условием для осуществления предлагаемой им программы Папен ставил замену
военного министра. Но Гинденбург не отважился на полный разрыв с конституцией;
возможно на него оказала влияние демагогическая угроза нацистов добиться
предания его суду за переворот 20 июля в Пруссии. Президент предпочитал
проводить фашизацию — вплоть до передачи всей власти гитлеровцам — при
соблюдении внешней легальности.
Что касается неверия Папена в
реальность всеобщей забастовки, то, конечно, события 20 июля давали основания
для такого предположения; но последующий подъем стачечного движения, особенно
же забастовка на берлинском городском транспорте, побуждал подойти к такой
возможности серьезнее. Даже фашисты, без конца кричавшие о своей готовности
расправиться с революционным рабочим классом, боялись всеобщей забастовки как
огня и ничуть не сбрасывали ее со счетов, подобно Папену. Вот что, например,
писал Геббельс в своем дневнике как раз в ноябре
Правительство
Шлейхера и его цели
2 декабря рейхсканцлером
Германии стал генерал Шлейхер, сохранивший в своих руках и должность военного
министра. Оба высших поста в государстве — президента и главы правительства —
были заняты профессиональными военными. Цель Шлейхера заключалась в
непосредственном руководстве переходом к открытому перевооружению в
соответствии с планами, усиленно разрабатывавшимися его сотрудниками.
-----------------
Брахер, Фогельзанг и др.) утверждают, со
слов Отта, будто командование опасалось одновременного выступления гитлеровцев.
Это грубо противоречит исторической истине, как показывают, в частности, важные
архивные документы, опубликованные историком из ГДР Ф. Арндтом (F. Arndt. Vorbereitungen
der Reichswehr fur den militarischen Ausnahmezustand.— «Zeitschrift fur
Militargeschichte», 1965, N
32 F. Papen. Der Wahrheit eine Gasse. Innsbruck, 1952,
S. 250.
33 J. Gobbels. Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei. Berlin,
1934, S. 192.
373
Шлейхер стремился предстать
перед народом в обличье человека, начисто отрицающего возможность, а главное,
целесообразность «сидения на штыках» и проявляющего понимание социальных
проблем. Именно так он и представился в своей правительственной декларации,
которая была прочитана по радио. Главная его задача, заявил Шлейхер,
обеспечение работой, все остальное не имеет значения, а «меньше всего—
изменение конституции и прочие прелести, которыми нельзя утолить голод». И
всячески уверяя слушателей, что он печется о благе народном, Шлейхер
воскликнул: ««Что же — социальный генерал?» — вырывается кое у кого из моих
слушателей, с сомнением или даже иронически пожимающих при этом плечами».— «Да»
— подтверждал Шлейхер. В качестве же обоснования приводился следующий «довод»:
«Не было ничего более социального, чем армия времен всеобщей воинской
повинности, в которой... богатый и бедный стояли рядом»34.
Мы скажем несколько ниже,
чего стоили экивоки Шлейхера и какую они преследовали цель. Но раньше приведем
оценку нового правительства Э. Тельманом уже 4 декабря на конференции КПГ в
Гамбурге: «Буржуазия при помощи иных методов, с иной вывеской и определенной
перегруппировкой своих сил предполагает осуществить те же требования
предпринимателей и программу финансового капитала». Тельман обратил особое
внимание на объединение постов главы правительства и военного министра. Он
заявил далее: «Мы уже теперь можем сказать, что обострение классовых
противоречий, растущие разногласия в лагере буржуазии, а прежде всего
усиливающееся наступление пролетариата обусловливают кратковременную
продолжительность существования кабинета Шлейхера. Мы должны рассматривать это
правительство как переходный кабинет к коалиции с Гитлером или к правительству
Гитлера»35. То был прозорливый анализ, отличавшийся от многих
тогдашних оценок кабинета Шлейхера36. Это правительство
рассматривалось как весьма устойчивое, в частности потому, что его глава был
хорошо известен как ловкий и гибкий политик, носящийся с идеей создания «третьего
фронта» из профсоюзов разных политических направлений. Идею «третьего фронта» в
течение нескольких месяцев пропагандировали газета «Теглихе рундшау» —
выразительница взглядов генерала — и журнал «Ди Тат»; редактором обоих изданий
был Г. Церер (после войны
-----------------------------
34 «Vossische Zeitung», I6.XII [932.
35 «Die Antifaschistische Aktion. Dokumentation und Chronik.
Mai 1932 bis Januar 1933». Berlin, 1965, S. 320.
36 «Перед этим кабинетом... долгий путь,—
писал хорошо осведомленный журналист Г. Церер,— и он может оставаться у власти
очень длительное время» («Tagliche Rundschau»,
4.XII 1932).
374
долголетний издатель реакционной газеты
«Ди Вельт», выходящей в Гамбурге). Вот что он писал, например, в августе
Но, хотя эти идеи Шлейхера
были известны, тем не менее, промышленные магнаты считали, что подлинное
«призвание» его — подготовить переход власти к Гитлеру38. Кронпринц,
упорно добивавшийся этого, также полагал, что генерал является «ценнейшим
мостом» к нацистской партии39. Высоко ценили Шлейхера и фашистские
лидеры. Так, еще в октябре Геринг в статье, опубликованной за рубежами
Германии, писал: «В правительстве есть только один человек, доказавший, что он
располагает качествами, которые необходимы для высокого поста. Этот человек —
генерал Шлейхер»40. Сам генерал стремился укрепить впечатление, что
он по-прежнему прилагает все усилия, чтобы вручить власть Гитлеру. В узком
кругу (но не без расчета на распространение) Шлейхер говорил, что его
правительство—лишь переходное: «Я останусь до тех пор, пока один из них
(Гинденбург или Гитлер.— Л. Г.) не уступит»41.
Расчеты, исходившие из
тактики Шлейхера в прошлые месяцы и из его близости к фашистским главарям,
оказались, однако, во многом ошибочными. Шлейхер, весьма близкий к крупному
промышленнику О. Вольфу и его группировке12, в конце
-----------------------
37 «Die Tat», 1932, N 5, S. 389.
38 АВП СССР, ф. 82, п. 60, оп. 17, д.
39 Th. Vogelsang. Reichswehr, Staat und NSDAP, S. 338.
40 E.
Beck. The Death of the Prussian Republic. Tallahassee, 1959, p. 174.
41 W. Gorlitz. Hindenburg. Bonn, 1953, S. 395. Очень
близка к истине в оценке продолжительности пребывания Шлейхера у власти была
«Дейче альгемайне цейтунг», писавшая 5 декабря, что «смысл создания нового
правительства—предоставить паузу в 12 недель, во время которой могут состояться
переговоры м.ежду власть имущими и Гитлером».
42 DZAP, Akten des Alldeutschen Verbands, Bd. 166, Bl. 41.
43 На заседании правительства 25 ноября Шлейхер заявил:
«Только Гитлер может представить выигрыш для президиального кабинета — у него
1/3 избирателей». 16 января
375
детельство тому — донесение австрийского
поверенного в делах в Берлине от 21 декабря
Еще до вступления в новую
должность Шлейхер направил подполковника Отта к Гитлеру. Фашистскому главарю
были предложены пост вице-канцлера и несколько министерств, но тот вновь
отказался принять подобные условия45. Это означало, что
монополистические группировки, опиравшиеся на гитлеровскую партию, несмотря на
потери, понесенные ею, продолжали домогаться полноты власти. Тогда, чтобы
склонить Гитлера к компромиссу, Шлейхер предпринял попытку раскола нацистской
организации. Эту попытку он подготовлял еще при правительстве Папена. Лицом,
которое генерал избрал для этой цели, был Г. Штрассер, руководивший
организационным отделом партии и принадлежавший к числу недовольных политикой
Гитлера46. Опасаясь взрыва негодования членов партии при дальнейшей
оттяжке ее прихода к власти, Штрассер высказывался за вступление в
правительство на предложенных условиях.
Геббельс еще в середине
ноября записал в дневнике, что Штрассер завязал сепаратные связи с
правительством. После же того, как Шлейхер возглавил правительство, эти связи
стали очевидными. О. Брауну, посетившему рейхсканцлера в декабре, Шлейхер
сказал, что сделано все для избрания Штрассера премьер-министром Пруссии, а затем
он будет назначен имперским вице-канцлером. «Штрассера,—заявил генерал,—
разделяют с Гитлером острейшие противоречия. Если он отделится от партии вместе
с наиболее ценными в национальном отношении элементами, которые, конечно,
имеются в ней, то произойдет раскол»47. По некоторым сведениям,
Штрассера
---------------
44 ОРФ
Института истории АН СССР, ф. Ж, л. 48, п.
45 E. Оtt. Ein Bildnis des Generals Kurt von
Schleicher.—«Politische Studien», 1959, N 110, S. 370.
46 Любопытно, что еще до Шлейхера мысль об использовании
Штрассера пришла в голову Брюнингу. В литературе имеются сообщения, что в конце
47 O. Braun. Von Weimar zu Hitler.
New York, 1940, S. 432.
376
поддерживало более 7з нацистской фракции
рейхстага48. Примерно так же оценивал степень влияния Штрассера и
Шлейхер; согласно сообщению Мейсснера, на совещании у Гинденбурга 1 декабря он
заявил, что вместе со Штрассером Гитлера покинут от 60 до 70 депутатов
рейхстага 49. Известно, что Шлейхер представил фрондирующего
гитлеровца Гинденбургу50, хотя сведения об этом, содержащиеся в
литературе, противоречивы51. Если верить Мейсснеру, Гинденбург
согласился предоставить Штрассеру пост вице-канцлера.
Штрассер был закоренелым,
отъявленным фашистом, единомышленником Гитлера во всем, кроме вопроса об участии
в правительстве52. Он прославился своими погромными кровожадными
выступлениями в рейхстаге и вне его, а роль Штрассера и в разработке
человеконенавистнических замыслов фашистской партии, и в террористических
действиях ее штурмовых отрядов была весьма велика53. Он явился бы
«достойным» членом правительства Шлейхера, которое по своему составу почти
ничем не отличалось от своего предшественника — «кабинета баронов».
Единственным более или менее существенным различием была замена Гайля на посту
министра внутренних дел Брахтом, но трудно сказать, кто из них был реакционнее.
Брахт не только был человеком, на практике осуществлявшим реакционный переворот
в Пруссии, но и одним из наиболее активных (в составе правительства Палена)
сторонников быстрого и полного предоставления власти Гитлеру.
-------------------
48 Н. Fraenkel, R. Mannvel. Gobbels. Eine Biographie. Koln — Berlin, 1960, S.
154.
49 H.-O. Meissner, H. Wilde. Die Machtergreifung, S. 121. По сведениям
брата Г. Штрассера Отто, когда тот порвал с Гитлером, 63 депутата,
поддерживавшие его, в том числе Фрик, Кубе, Кох, Кауфман (гаулейтер Гамбурга),
Рeвентлов и др., собрались на совещание. «Они были готовы идти за ним, куда бы
он ни пошел» (О. Strasser. Mein Kampf.— «Stern», 1969, N 18, S. 118).
50 См. АВП СССР, ф. 82, п. 60, оп. 17, д.
51 Е. Wickert. Dramatische Tage in Hitlers Reich.
Stuttgart, 1952, S. 25; W. Grottkopp. Die grosse Krise. Dusseldorf,
1954, S. 78, u.a.
52 Это не мешает Гроткопу утверждать, что «сокровенной целью
Штрассера был синтез национальных и социалистических идей» {W, Grottkopp. Die
grosse Krise, S. 79). Что касается «социалистических идей» Штрассера, то они таковы:
«Социализм в старом, не в интернациональном, фальсифицированном смысле —это
дух товарищества плюс принцип производительности. Социализм — это Кёльнский
собор, социализм — это стена старинного имперского города» (К. Reibnitz. Im
Dreieck Schleicher, Hitler, Hindenburg. Dresden, 1933, S. 29) или: «Социализм —
это не что иное, как пруссачество в действии» (DZAP, Reichsministerium des
Innern, N 26133, Bl. 327).
377
В архиве Шлейхера найдено
письмо, присланное ему кронпринцем (но написанное другим лицом). Оно содержит
рекомендации о политике правительства в случае вступления в него Штрассера.
«Тогда можно было бы прибегнуть к чему-то вроде чрезвычайного положения,
временно распустить все политические партии и ассоциации, издать постоянный
запрет коммунистической партии и провести против нее военные мероприятия;
другим же организациям следовало бы, однако, разрешить возобновить свою
деятельность»54. Шлейхер пробыл у власти слишком мало, чтобы
попытаться осуществить такой план, но подготовка <к введению чрезвычайного
положения именно в декабре
В тот момент, когда Шлейхер
стал рейхсканцлером, политика правящих кругов зашла в тупик, и генерал счел
необходимым временно отступить. Отсюда и усиленные попытки «умиротворить»
рабочий класс, выдать себя за «социального генерала», и некоторые уступки
трудящимся, ставшие неизбежными в результате подъема массовой борьбы. К их
числу относится отмена статей чрезвычайного декрета от 4 сентября, послуживших
толчком к массовой забастовочной волне, ассигнования на общественные работы,
которые должны были несколько смягчить безработицу, мероприятия по «зимней
помощи» особо нуждающимся и т. п. Этими же соображениями диктовались переговоры
с профсоюзами — реформистскими и христианскими. Шлейхер упорно твердил о
«надпартийности» своего кабинета, но можно ли было принимать это всерьез, зная,
что состав последнего остался в основном прежним и что сам Шлейхер в течение
последних лет фактически являлся главным проводником фашизации страны? Именно
по его инициативе была осуществлена легализация фашистских штурмовых отрядов,
которые беспрепятственно продолжали свою разбойничью деятельность и после того,
как Шлейхер стал во главе правительства. Он играл определенную роль и в
событиях 20 июля, и не удивительно, что смещение прусского правительства
осталось в силе, хотя генерал, заигрывая с социал-демократическими лидерами, от
которых зависела политика профсоюзов, для отвода глаз вел переговоры с О.
Брауном. Посетившему же его осенью
О том, что собой представляла
«надпартийность» Шлейхера, яснее всего свидетельствовало следующее .место из
его про-
----------------------
54 E. Beck. The Death of the Prussian Republic, p.
254.
55 «Zeitschrift fur Militargeschichte», 1965, N 2, S. 201—203.
56 H. Punder. Politik in der Reichskanzlei. Stuttgart,
1964, S. 149.
378
граммного заявления по радио: «Я не хотел
бы, однако, оставить сомнения у враждебного государству коммунистического
движения, что имперское правительство остановится перед драконовскими
чрезвычайными мерами против коммунистической партии». И правительство на
практике демонстрировало, что это не простые угрозы. Хотя Шлейхер и отменил
некоторые декреты Папена, носившие чрезвычайный характер (например, о
трибуналах), репрессии против компартии продолжались с прежней ожесточенностью.
Даже нацист Кребс (представитель «радикального» крыла партии) в мае
Лидеры СДПГ формально
остались в оппозиции к правительству и даже внесли в рейхстаг вотум недоверия.
Но после первых же заявлений генерала, а еще более после сделанных им уступок
отношение руководства СДПГ .к новому правительству заметно изменилось. На заседаниях
рейхстага, происходивших с б по 9 декабря, социал-демократические депутаты не
только не настаивали на голосовании вотумов недоверия кабинету, но
присоединились к тем, кто высказался за предоставление ему «передышки». Главное
же, оставаясь сами в тени, главари социал-демократии через посредство своих
коллег из руководства реформистских профсоюзов фактически протянули руку
«социальному генералу», который еще недавно фигурировал во всей
социал-демократической и профсоюзной прессе не иначе, как зачинатель всех
реакционных законов и первый покровитель нацистов.
Уже через один-два дня после
назначения Шлейхера во французской газете «Эксцельсиор» появилось интервью
Лейпарта, где говорилось, что «новый кабинет не будет стеснен в своей
политической деятельности сопротивлением со стороны рабочего класса». Он
объяснял такую позицию тем, что «генерал Шлейхер оказался не тем человеком,
каким его себе представляли»58. И хотя позднее Лейпарт «опроверг»
отдельные частные неточности в опубликованном тексте интервью, его дальнейшие
действия и заявления целиком подтвердили правильность сообщения французской
газеты. В своем новогоднем обращении к членам профсоюзов он писал, что
«правительство Шлейхера стремится выполнить часть наших требований»59.
Весьма благожелательной к правительству была статья Лейпарта, опубликованная в
органе «Железного фронта» «Аларм» («Тревога»). Автор утверждал, что
правительство стремится «извлечь уроки
-----------------
57 W.
Jochmann. Nationalsozialismus und Revolution. Frankfurt a/M., 1963, S. 388.
58 «Berliner
Tageblatt», 5.XII 1932.
59 «Vorwarts»,
30.XII 1932.
379
из тяжелых политических и психологических
ошибок последних месяцев». Если верить Лейпарту, правительство Шлейхера, этот
слегка урезанный «кабинет баронов», «как будто чувствует, что борьба
германского рабочего класса против каждодневной нужды заслуживает глубочайшего
восхищения»60.
Последовали встречи Лейпарта
с Шлейхером, показавшие, что реформистская верхушка профсоюзов выступает в
авангарде окончательно перерождающихся элементов руководства социал-демократии.
Полностью совпадала с этой предательской по отношению к жизненным интересам
рабочего класса позицией и точка зрения руководства христианских профсоюзов,
отражавшая политический курс партии Центра. Один из лидеров этих профсоюзов Я.
Кайзер {после второй мировой войны — долголетний член правительства ФРГ) заявил
в середине декабря: «Совещания с рейхсканцлером оставили впечатление, что мы
имеем дело с человеком, понимающим интересы рабочих»61. Так
обоюдными усилиями правящих кругов и профсоюзной верхушки делались попытки
добиться установления «классового мира», уничтоженного подъемом массового
движения пролетариата в последние месяцы.
Бюллетень «Дейче фюрербрифе»
писал в те дни, что «Лей-парт и его окружение, в частности Тарнов, готовы
порвать с социал-демократией, как только правительство сочтет это
целесообразным»62. Подобную готовность бюллетень объяснял интересами
самосохранения. Навряд ли только профсоюзной верхушке была нужда рвать с
социал-демократией, ибо немалая часть руководства последней втайне поддерживала
тактику Лей-парта и его коллег, возражая лишь против афиширования близости к
Шлейхеру. Что касается правительства, то оно не форсировало создания
«профсоюзного фронта» от нацистов до социал-демократов ввиду неясности
перспектив группы Штрассера и положения в гитлеровской партии вообще.
Паника в
среде фашистов и заговор реакции
Положение нацистов одно время
было действительно весьма тяжелым, ибо к неуклонному падению влияния партии
присоединились серьезные финансовые трудности. «Денежные заботы
--------------------------------------
60 Цит
по: «Rote Fahne», 23.XII 1932.
61 «Frankfurter Zeitung», 15.XII 1932.
62 Цит. по: «Правда», 14.ХП.1932. А орган
«Клуба господ» поместил на обложке портрет профсоюзного босса с подписью
«Лейпарт устанавливает взаимопонимание с правительством» («Der Ring», 1932, N
50). Некоторые высказывания Лейпарта того времени, не оставляющие сомнений в его намерениях, приводит в
своих воспоминаниях Э. Леммер (Е. Lemmer. Manches war doch anders. Frankfurt
a/M., 1968, S. 167).
380
делают какую-либо целеустремленную работу
невозможной»,— записал Геббельс 8 декабря в своем дневнике. Подтверждением тому
могут служить секретные донесения, поступавшие к Брахту из центра рурского
промышленного района и относящиеся ко второй половине ноября.
«Национал-социалистская партия, судя по всему,— говорилось в одном из них,—
испытывает в Западной Германии чрезвычайно большие материальные трудности.
Представители партии пытаются повсюду получить деньги, но значительная часть
промышленников воздерживается от финансирования»63. А несколькими
днями позже из того же источника сообщалось: «Финансовое положение
западногерманских национал-социалистов все более обостряется. Штурмовики
практически не получали денег со дня выборов. В настоящее время происходят
переговоры отдельных гаулейтеров с промышленниками. Представители
национал-социалистов готовы сделать любые обещания в обмен на поддержку»64.
Сведения о том, что финансирование нацистов магнатами капитала резко
уменьшилось, проникли в печать, фигурировали в выступлениях представителей
других партий 65.
Резко возросла задолженность
гитлеровской партии. Данные об ее размерах расходятся, но, по самым минимальным
подсчетам, она составляла 10—12 млн. марок. Тревиранус, ссылаясь на данные
Шредера, считает, что долги гитлеровской партии составляли 13—30 млн. марок66.
Г. Хальгартен оценивает их даже в 70—90 млн.67 Нацистским газетам
угрожало прекращение выхода, и владелец типографии, где печатался центральный
орган партии «Фелькишер беобахтер», заявил, что он прекратит печатание, если
ему не будет уплачен долг68. В начале января представитель нацистов
официально объявил о невозможности внести причитавшиеся с партии налоги69.
На улицах появилось множество
штурмовиков с кружками для пожертвований в пользу фашизма. Многие предвидели
крупное поражение национал-социалистов на выборах, и штурмовикам, собирающим
пожертвования, все чаще приходилось видеть холодные, насмешливые, враждебные
лица. Из 20 прохожих едва ли один бросал в кружку. Но и это не исчерпало
тогдашних неудач нацистов. На каждых местных выборах, происходивших в
ноябре—декабре, гитлеровцы катастрофически теряли сто-
-----------------------------------
63 DZAP,
Bracht-Nachlass, Bd. II, Bl. 171.
64 Ibid., Bl. 191.
65 Об этом говорил, например, В. Дитман на митинге в городке
Хоф (Франкония) (ЦПА ИМ Л, ф. 215, оп. 1, ед. хр. 210).
66 G. R. Treviranus. Das Ende von Weimar, S. 355.
67 G. W. F. Hallgarten. Why Dictators. New York, 1954, p. 219.
68 H. R. Berndorff. General zwischen Ost und West. Aus den
Geheimnissen der Deutschen Republik. Hamburg, o. J., S. 212.
69 J. Gobbels. Tagebucher 1932—1943. Zurich, 1948, S.
5.
381
ройников. Лишь за одну неделю — с 6 по 13
ноября — гитлеровцы потеряли в Лейпциге 27 тыс. голосов (из 128 тыс.), в
Дрездене — 29 тыс. (из 134) и т. п. На коммунальных выборах в Тюрингии в первых
числах декабря потери нацистов составили почти 40% 70.
Газеты были полны сообщений о
неповиновении, протесте и уходе коричневорубашечников из штурмовых отрядов.
Наиболее заметным из фактов такого рода был развал организации штурмовиков в
Нюрнберге и во всей Франконии (Северная Бавария) в начале января
Подлинный кризис в
гитлеровской партии разразился 8 декабря, когда произошел открытый разрыв между
Г. Штрассером и Гитлером. Сенсационное сообщение об этом появилось на следующее
утро в органе Шлейхера «Теглихе рундшау». Здесь говорилось, что Штрассер подал
в отставку со всех постов, которые он занимал в партии, заявив в письме Гитлеру
о нежелании нести и далее ответственность за «политику исключительности»,
проводимую им и ставшую причиной изоляции, в какой очутилась партия. «Свою задачу
он [Штрассер] всегда видел только в том, чтобы подвести к государству широкие
массы (!) крестьян, служащих и рабочих»73.
Газета посвятила этому
событию большую передовую статью, в которой проводилась мысль, что отставка
Штрассера — сигнал для всей нацистской партии, а он сам изображался в качестве
«оплота немецкого социализма». Объясняя причины, побудившие Штрассера
действовать, газета указывала, что условия диктовали нацистам участие в
правительстве сначала на вторых ролях, но Гитлер не хотел предоставить свободы
никому из своих приближенных. «Г. Штрассер,— говорилось далее,— сделал выводы
из этого. Тот факт, что он остается в партии, показывает, чего он ожидает. Он
рассчитывает на серьезные изменения в национал-социалистской партии, без
которых она идет навстречу чрезвычайно критическим обстоятельствам. Сигнал
отставки Штрассера не останется без отклика... Нельзя полагать, что партия
безмолвно примет его уход и удовлетво-
----------------------
70 «Правда», 15.ХI; 6.ХП 1932.
71 АВП СССР, ф. 32, п. 60, оп. 1, д.
72 D. Orlow. The History of the Nazi Party 1919—1933,
p. 282.
73 «Tagliche Rundschau», 9.XII 1932.
382
рится этим»74. Как видим,
Шлейхер возлагал на Штрассера большие надежды, и поначалу казалось, что они
вполне оправданы.
Панические настроения,
овладевшие в этот момент фашистскими главарями, хорошо отражены в дневнике
Геббельса. 6 декабря он записал: «Положение партии катастрофично». Двумя днями
позже: «В организации царит тяжелая депрессия». Затем читаем: «Мы все очень
подавлены, прежде всего, из-за опасения развала партии и из-за того, что вся
наша работа была напрасной». В наибольшей растерянности оказался сам «фюрер»»
По словам Геббельса, Гитлер часами ходил по номеру гостиницы, не зная, что
предпринять. «Один раз он остановился и сказал: «Если партия распадется, то я в
течение трех минут кончу дело при помощи пистолета»» 75. Такие
записи заполняют дневник весь конец ноября и большую часть декабря. Затем они
внезапно сменяются более оптимистическими.
Но в глазах широкой
общественности все новые факты, свидетельствовавшие о кризисе гитлеровской
партии, укрепляли убеждение, возникшее после ее поражения на выборах в
рейхстаг и особенно после неудачи ноябрьских переговоров между Гитлером и
Гинденбургом, что крах нацистской партии неизбежен и она больше не является
крупным политическим фактором. Подобная точка зрения высказывалась в самых
различных кругах —от членов правительства до лидеров СДПГ. Так,
влиятельная газета «Франкфуртер цейтунг» в новогоднем номере провозглашала:
«Генеральная атака национал-социалистов на государство отбита». Примерно то же
заявил социал-демократический «Форвертс», комментируя обмен письмами между
Гитлером и статс-секретарем Гинденбурга Мейсснером; «С мечтами Гитлера
покончено!»76.
«Даже 15 января, когда за
кулисами уже вовсю шел сговор о создании правительства во главе с Гитлером,
Шлейхер заявил посетившему его австрийскому политическому деятелю: «Гитлер не
является более политической проблемой, нацисты не представляют более
политической опасности; это уже прошлое»77. А статс-секретарь
министерства иностранных дел Бюлов в письме германскому послу в США, написанном
еще позже, 19 января, сообщая об организационном и финансовом кризисе на-
------------------
74 Ibidem.
75 J. Gobbels. Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei, S.
217—220.
76 «Vorwarts», 25.XI 1932. Лидеры СДПГ и до этого выступали с
такого рода высказываниями. Даже Хегнер, отличавшийся большим реализмом, чем
его коллеги, в своей речи па съезде баварской организации СДПГ 25 сентября
заявил: «С мечтами Гитлера о диктатуре одной партии по фашистскому образцу
покончено» (ЦПА ИМЛ, ф. 215, оп. 1, ед. хр. 95).
77 К. Schuschnig. Dreimal Osterreich. Wien, 1953, S. 206.
383
цистской партии, высказывал опасения
насчет угрозы ее быстрого краха и перехода ее приверженцев к коммунистам78.
Последний пункт больше всего
волновал правящие круги, и без того весьма обеспокоенные успехами
коммунистической партии. Что же касается публичных заявлений о неминуемом крахе
фашистской партии, то многие из них, вероятно, имели целью —как это ни странно
— оказать помощь гитлеровцам. Во-первых, они должны были усыпить бдительность
республиканцев и демократов, убедить их в том, что гитлеровская опасность
полностью миновала. И надо признать, что покровителям нацистов нередко это удавалось.
Во-вторых, разного рода сообщения о кризисе в фашистском лагере призваны были
«разжалобить» тех, кто временно приостановил финансирование нацистов; отсюда
многочисленные призывы правобуржуазной прессы «не дать погибнуть» гитлеровской
организации.
Касаясь предполагаемого краха
нацистской партии, «Дейче альгемейне цейтунг» 6 декабря писала: «Это было бы
национальным бедствием. Она еще не выполнила своей задачи. Государство
нуждается в ней, как в защите от большевизма». Буквально то же самое заявил Папен
английскому послу в Берлине. «Было бы катастрофой,— сказал он,— если бы
гитлеровское движение развалилось или было разбито, ибо нацисты— это последний
оплот против коммунизма в Германии»79. Как видим, одни и те же
«идеи» использовались и для внутреннего употребления, и для привлечения
правящих кругов Англии и США. То была игра на так называемой угрозе коммунизма.
Шло наступление самой
крайней, самой разнузданной реакции, причем она сумела повести за собой
миллионные массы мелкой буржуазии и даже небольшую часть рабочего класса. В
отчаянной, кровопролитной схватке с фашизмом пролетариату, вдохновляемому
коммунистической партией, удалось добиться определенного сдвига в развитии
событий. Тем не менее гитлеризм оставался смертельной опасностью, и она была тем
более велика, что покровители нацизма —монополии — не собирались допустить
гибели огромных средств, вложенных ими в «предприятие», которое еще не принесло
им главных доходов. «То, что будет разрушено вместе с национал-социализмом, не
сумеет восполнить ни один Папен. При самом большом желании и при самом большом
умении, если оно вообще есть у него»,— писал идеолог монополий Г. Гримм80.
----------------
78 К.
D. Bracher, W. Sauer, G. Schulz. Die nationalsozialistische
Machtergreifung. Koln, 1960, S. 235.
79 «Documents on British Foreign Policy. Second Series», vol.
IV. London, 1950, p. 390.
80 H. Grimm. Suchen und Hoffen aus meinem Leben. 1928
bis 1934. Lippoldsberg, 1960, S. 175.
384
Нацистская партия давала
буржуазии то, в чем та нуждалась больше всего — массовую базу, без которой
нельзя держаться у власти, а главное, нельзя было и помышлять о реванше.
Германские монополисты мечтали о времени, когда прекратятся «ненавистные»
забастовки, с улиц исчезнут красные флаги и можно будет без помех приступить к непосредственной
подготовке новой мировой войны. К поддержке Гитлера побуждали крупный капитал и
причины сугубо материального характера. Хотя в ходе экономического кризиса
германские правительства сделали все от них зависящее, чтобы переложить его
тяготы на народ, глубина кризиса была такова, что в
Этими же соображениями
объясняется, например, тот факт, что на сторону нацистов окончательно перешел
Юнкере, экономическое положение которого сильно ухудшилось в годы кризиса и
который, как свидетельствуют архивные документы, надеялся получить от
нацистского правительства государственную субсидию82.
Таким образом, «фюрер» рано
предавался отчаянию: в создавшихся условиях его могущественные покровители не
собирались допустить ухода нацистов с политической арены. Об этом
свидетельствовало выступление бюллетеня крупных промышленников «Дейче
фюрербрифе» в пользу передачи власти гитлеровской партии. «Гинденбург должен
довериться Гитлеру!» — провозгласил бюллетень во второй половине ноября, и это
произвело большое впечатление на многих сильных мира сего. Ту же позицию, как
было 26 ноября сообщено Брахту, заняли монополисты, собравшиеся в Дюссельдорфе
на сессию могущественного «Объединения по охране общих интересов»83.
Последовала новая серия
встреч Гитлера с теми, от кого зависел дальнейший ход событий,—сначала с
Тиссеном, а затем (в конце ноября или начале декабря) с Гугенбергом; согласно
показаниям последнего, Гитлер затронул здесь вопрос о формировании
коалиционного правительства84. Желая замаскировать свою роль в
приходе гитлеровцев к власти, Гугенберг,
--------------------------------
81 См. К. Gossweiler .Die Rolle des Monopolkapitals bei
der Herbeifuhrung der Rohm — Affare. Berlin, 1963 (дисс). Фирма Круппа в
82 «Jahrbuch fur Wirtschaftsgeschichte», 1960, Т. 1, S. 119.
83 DZAP. Bracht-Nachlass, Bd. II, Bl. 164.
84 «Trial of the Major War Criminals...», vol. XI, p. 575,
385
к сожалению, не сообщил деталей их
разговора. Зато мы знаем подробности и предысторию другого свидания, имевшего
решающее значение в установлении фашистской диктатуры,— встречи Гитлера с
Папеном, состоявшейся по инициативе германских и иностранных воротил тяжелой
промышленности.
Именно в «примирении»
нацистов с Национальной партией, возрождении Гарцбургского фронта заключалась в
тот момент основная задача тех, кто добивался прихода фашизма к власти.
Единовластие гитлеровцев не устраивало те круги финансового капитала, которые
выступали за несколько более осторожный курс и во внутренних делах, и во
внешней политике. Считалось, что в случае создания коалиционного правительства
националисты будут действовать на гитлеровцев «умеряюще», обеспечивая в то же
время соблюдение интересов «своей» капиталистической группировки. Для
образования же такой коалиции Папен мог сыграть, пожалуй, даже большую роль,
чем председатель Национальной партии Гугенберг; это объяснялось его близостью «
президенту, на которого Папен оказывал большое влияние. Вот почему Папену было
поручено вступить в тайный (от Шлейхера) контакт с Гитлером; сам Гитлер
говорил, что поручение исходило от Гинденбурга 85.
В качестве посредника Папен
избрал кёльнского банкира барона Шредера, человека, уже в течение определенного
времени связанного с нацистской партией и входившего в пресловутый «кружок
друзей». В то же время Шредер — и в этом заключалась особенная его
привлекательность и для нацистов, и для Папена — был «своим человеком» среди
капиталистов Англии и США. Банк Шредера являлся одним из ярчайших примеров
переплетения и взаимопроникновения капитала разных государств, космополитизма
денежного мешка. Отпочковавшиеся от кёльнской фирмы отделения ее в Англии и США
превратились в крупные самостоятельные банки, сохранявшие, однако, тесные связи
с германскими Шредерами. Они принадлежали к тому весьма влиятельному кругу
американских и английских промышленников и банкиров, которые последовательно
поддерживали восстановление военно-промышленного потенциала Германии и
содействовали усилению реакционных, милитаристских элементов в этой стране.
Барон Шредер оказался в центре событий, приведших к власти германских фашистов,
а это означало, что в операции по передачи власти Гитлеру участвует англо-американский
капитал.
-------------------------------------
85 Н. Picker. Hitlers Tischgesprache
im Fuhrerhauptquartier 1941—1942. Bonn, 1951, S. 428. Характерно, что после
войны Папен пытался отрицать, что переговоры с Гитлером в конце
386
Как сообщил Шредер После
войны, Папен обратился к нему около 10 декабря86; тот в свою очередь
связался с советником Гитлера по экономическим вопросам Кеплером. Вот что
последний писал в своем ответе Шредеру, датированном 19 декабря: «Я чрезвычайно
приветствую, что Вы нашли возможным встретиться с г-ном Папеном, чтобы
действительно сделать возможным выяснение положения. Это явно удалось Вам... В
нынешней ситуации желание устроить беседу между Папеном и Гитлером кажется и
мне исключительно важным... учитывая, что г-н Папен безусловно лучше всего
может судить, каковы настроения старика (т. е. Гинденбурга.—Л. Г.)». А
далее Кеплер касается весьма щекотливого для нацистов момента: «Если Вы
предполагаете быть в своем доме в Кёльне, что было бы наиболее удобно, то час
встречи следовало бы выбрать так, чтобы фюрер мог прибыть туда и уехать оттуда
в темноте и о встрече не узнал кто-либо посторонний». Письмо завершается
словами: «Надо привести в движение все рычаги, чтобы побудить старика к
единственно правильным мерам. Г-н Папен мог бы снискать величайшие заслуги
перед немецким народом, если бы ему удалось получить согласие старика» 87.
Почти одновременно Кеплер
направил письмо Гитлеру, в котором после сообщения о намерении Папена
говорится: «Господин Папен считает скорое изменение политической ситуации
возможным и необходимым и полностью выступает за Вашу кандидатуру в
рейхсканцлеры» 88. Гитлер, для которого это было форменным
спасением, немедленно согласился встретиться с Папеном, предложив устроить
встречу 4 января. Ставя об этом в известность Шредера, Кеплер писал ему 26
декабря, что ни в коем случае нельзя допускать новых выборов до создания нового
правительства. Важно убедить президента, что выборы следует проводить
только после этого, под лозунгом «Гинденбург — Гитлер». Кеплер повторил: «Здесь
г-н Папен мог бы исполнить великую историческую миссию» и добавил: «Я надеюсь,
что благодаря Вашему умению удастся в ходе беседы устранить последние помехи»89.
Как видим, нацисты проявляли огромную заинтересованность в реализации
предложения Папена, не скупясь на лесть ни в отношении него, ни в отношении
Шредера. Они сразу воспряли духом. В дневнике Геббельса появилась запись о
предстоящей встрече с кратким комментарием: «Здесь возникает новый шанс»90.
---------------------
86 «Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung», Bd. 4. Berlin, 1966,
S. 606; см. также Г. Л. Розанов. Германия под властью фашизма, стр. 61—62.
87 Е. Czichon. Wer verhalf Hitler zur Macht?, S. 74—76.
88 Th. Vogelsang. Reichswehr, Staat und NSDAP, S. 484.
89 E. Czichon. Wer verhalf Hitler zur Macht?, S. 76—77.
90 J. Gobbels. Vom Kaiscrhof zur Reichskanzlei, S. 231.
387
![]() К этому времени дела гитлеровцев несколько поправились.
Гитлеру удалось энергичными мерами предотвратить раскол партии и локализовать
опасность, исходящую от Штрассера. Отпала также нависшая над фашистами
серьезная угроза возможного роспуска рейхстага и новых выборов, которые могли
принести им только новые крупные потери. Рейхстаг заседал всего лишь три дня, в
течение которых был избран президиум и приняты решения о политической амнистии,
отмене папеновского чрезвычайного законодательства в социальной области
(Шлейхер лишь узаконил это решение рейхстага) и т. д. Дальнейшие заседания все
откладывались до завершения закулисного торга, причем наибольшие усилия о целях
добиться таких отсрочек прилагали нацисты. В то же время вновь начал бушевать
поутихший было фашистский террор. В декабре всю страну всколыхнуло зверское
убийство гитлеровцами в Дрездене своего же человека, по каким-то причинам
впавшего в немилость91. Фашистские убийцы вновь почувствовали
уверенность и стали действовать еще более нагло и вызывающе. Первый же день
нового, 1933 года был ознаменован четырьмя жертвами. «Коричневая чума начала
новый безумный бег»,—говорилось в листовке КПГ, озаглавленной «Прекратить
убийство рабочих!»92
К этому времени дела гитлеровцев несколько поправились.
Гитлеру удалось энергичными мерами предотвратить раскол партии и локализовать
опасность, исходящую от Штрассера. Отпала также нависшая над фашистами
серьезная угроза возможного роспуска рейхстага и новых выборов, которые могли
принести им только новые крупные потери. Рейхстаг заседал всего лишь три дня, в
течение которых был избран президиум и приняты решения о политической амнистии,
отмене папеновского чрезвычайного законодательства в социальной области
(Шлейхер лишь узаконил это решение рейхстага) и т. д. Дальнейшие заседания все
откладывались до завершения закулисного торга, причем наибольшие усилия о целях
добиться таких отсрочек прилагали нацисты. В то же время вновь начал бушевать
поутихший было фашистский террор. В декабре всю страну всколыхнуло зверское
убийство гитлеровцами в Дрездене своего же человека, по каким-то причинам
впавшего в немилость91. Фашистские убийцы вновь почувствовали
уверенность и стали действовать еще более нагло и вызывающе. Первый же день
нового, 1933 года был ознаменован четырьмя жертвами. «Коричневая чума начала
новый безумный бег»,—говорилось в листовке КПГ, озаглавленной «Прекратить
убийство рабочих!»92
В то время, как за спиной Шлейхера уже завязался заговор,
генерал, сам являвшийся признанным мастером закулисной интриги, пребывал в
весьма самодовольном состоянии. Позиция рейхстага, не голосовавшего (как это
было по отношению к Папену) вотум о недоверии правительству, могла лишь
укрепить Шлейхера в этом самоослеплении. Таково же было, очевидно, воздействие
на канцлера и новогоднего приветствия, полученного им от Гинденбурга. Президент
благодарил его за «самое спокойное время
за весь период моего пребывания на посту президента» и выражал «большое
удовлетворение ведением государственных дел»93. В этих похвалах была
известная доля лицемерия, ибо Шлейхер не выполнил главного, по мнению
Гинденбурга,— не добился объединения крайне правых. Но в одном отношении старый
милитарист безусловно мог быть искренне доволен Шлейхером.
Именно в период его канцлерства,
хотя оно длилось менее двух месяцев, германские империалисты добились
важнейшего успеха в деле перевооружения; оно было подготовлено в течение ряда
предшествующих лет, особенно же за время пребы-
-----------------------
91 АВП СССР, ф. 82, п. 60, оп. 17, д.
92 Фонды ГМР, 9023/3 Д445—151.
93 О.-Е.
Schuddekopf. Das Heer und die Republik. Hannover,
1955, S. 353; K. Hammerstein. Schleicher,
Hammerstein und die Machtubernahme 1933.— «Frankfurter Hefte», 1956, N
2, S. 124.
388
вания Шлейхера на посту военного министра.
Настойчиво домогаясь «равноправия», которое нужно было им отнюдь не с моральной
точки зрения, как пишут реакционные историки, правящие круги Германии
стремились принять активное участие в гонке вооружений. При этом их прямыми
союзниками являлись консервативные политические силы западных стран,
выступавшие за ремилитаризацию Германии.
«Солиднейшая» английская
газета «Тайме» уже в декабре
Вот почему германский
империализм сумел добиться в конце
У Шлейхера имелся в этот
момент разработанный в деталях план реорганизации армии, шедший уже гораздо
дальше, чем программы перевооружения, фигурировавшие несколько меся-
---------------------------------
94 «Times», 17.XII
1932.
95 См. «Deutsche Allgemeine Zeitung», 25.XI 1932.
96 «Vossische Zeitung», 25.XII 1932. На заседаниях своего
кабинета Шлейхер мог быть более откровенен и не скрывал ликования. «Этим
заявлением достигнуто то,— сказал он,— что до недавнего времени считалось
просто невозможным» (DZAP, Reichskanzlei, Kabinettsszitzungen, N 755, Bl.
761267).
389
цев назад. Он предусматривал создание в
течение нескольких лет 21 дивизии, сокращение (до введения воинской повинности)
срока военной службы с 12 до 3 лет и формирование подразделений запрещенных
Германии видов оружия: танков, тяжелой и противотанковой артиллерии 97.
Сразу же после женевского соглашения Шлейхер предпринял дальнейшие шаги и еще в
декабре получил предварительное согласие Англии и Франции на увеличение армии
до 300 тыс. человек и оснащение ее современным оружием 98. Широкая
военная подготовка проводилась с осени
Но чтобы придать еще большие
размах и целеустремленность военным приготовлениям, монополии стремились
поставить у власти гитлеровскую клику, добившуюся существенных результатов в
одурманивании широких масс ядом шовинизма, что было для буржуазии отнюдь не
менее важно, чем тот или иной вид вооружения. Это и было целью поездки Папена в
Кёльн на свидание с Гитлером.
Мемуары гитлеровского приспешника
Дитриха дают представление о том, с какими предосторожностями, выбирая окольные
пути и тщательно маскируясь, Гитлер и сопровождающие его лица — Гесс, Гиммлер,
Кеплер и др.— пробирались в назначенное место: «Рано утром все мы приезжаем в
Бонн, где уже ожидает машина фюрера, чтобы доставить нас в Годес-берг... Здесь
подъезжает закрытый автомобиль. Фюрер садится в него и отправляется. Цель
поездки неизвестна. Нам же фюрер приказал продолжать путь в его машине в
направлении
---------------------------
97 G. Castellan. Le rearmement clandestein du Reich
(1930—1935). Paris, 1954, p. 82—84.
98 H. R. Berndorff. General zwischen Ost und West, S. 24.
99 Th. Vogelsang. Reichswehr, Staat und NSDAP, S. 288.
100 C. Horkenbach. Das Deutsche Reich von 1918 bis heute.
Berlin, 1935, S. 16.
101 Ibid., S. 19.
390
к Кельну. Мы должны были остановиться на
дороге в Дюссельдорф в
Участников сговора ожидал,
однако, неприятный сюрприз: и они, и Папен при входе в дом Шредера были засняты
неизвестно каким образом очутившимися здесь репортерами. Снимки в тот же день
были представлены ничего не подозревавшему Шлейхеру, а на следующее утро,
вместе с соответствующей информацией, появились в печати. «Виновником» того,
что тайна встречи Папена с Гитлером была раскрыта, являлся уже упоминавшийся
Церер, сумевший подкупить одного из телохранителей Гитлера (это обошлось в 3
тыс. марок) 103.
Даже спустя почти 10 лет,
касаясь этой беседы с Папеном, Гитлер вспоминал о своем тогдашнем впечатлении,
что дела устраиваются вовсе неплохо 104. В этом можно убедиться,
познакомившись со статьями Шредера в фашистской печати и его показаниями на
судебных процессах послевоенных лет. В ходе беседы с Гитлером Папен изложил
программу, которая, согласно записи хозяина дома, включала следующие пункты: 1)
усиление борьбы против коммунистической партии; 2) увеличение влияния предпринимательских
союзов на экономику; 3) оживление экономической конъюнктуры при помощи крупных
государственных заказов, иными словами — быстрое расширение военного
производства; 4) аннулирование Версальского договора, превращение Германии в
крупную военную силу, независимую от зарубежных стран в экономическом отношении
105. Эта программа полностью соответствовала намерениям самих
гитлеровцев, и не удивительно, что Гитлер солидаризировался с ней, сделав упор
на первом пункте, предусматривавшем разгром организаций революционного
пролетариата и его союзников.
Четыре пункта, изложенные
Папеном Гитлеру, отражали сокровенные замыслы магнатов капитала. Следует
обратить внимание на требование усилить роль предпринимательских объединений,
т. е. обеспечить господство монополий в экономике. Выдвигая его, правящие круги
имели в виду раз навсегда покончить с нацистской демагогией относительно
'«хищнического капитала», без которой гитлеровцы, идя к власти, не могли
-------------------------------
102 О. Dietrich. Mit Hitler in die Macht. Munchen, 1934,
S. 170. Весь цинизм нацистской демагогии виден из того, что выступая в тот же
день (!) R Детмольде, Гитлер говорил, что он «не обучен, и не хочет учиться,
вести борьбу за кулисами» (М. Domarus. Hitlers Reden und Proklamationen,
Bd. 1. Munchen, 1965, S. 176).
103 H. R. Berndorff. General zwischen Ost und West, S. 225.
104 H. Picker. Hitlers Tischgesprache..., S. 428,
105 Г. Л. Розанов. Германия под властью фашизма, стр. 62—63.
391
обойтись. Вопрос же о вручении им судеб
страны был предрешен — мы говорим здесь только о планах власть имущих — именно
во время кёльнской встречи. Гитлер и Папен условились создать коалиционный
кабинет во главе с фашистским «фюрером», куда бы вошли и представители других
крайне правых организаций — Немецкой национальной партии, «Стального шлема» и
т. п. 106 «Когда распрощались в 4 часа 30 минут,— писал Шредер в
Это была чистая правда, но
признать ее Папен не решался, ибо опасался ответных действий со стороны
Шлейхера, которого хотели оставить в положении «вне игры». Отсюда —
смехотворное «опровержение», опубликованное 6 января. В нем говорилось, что в
связи со своей «поездкой к матери» в Дюссельдорф Папен имел беседу с Гитлером,
отнюдь не направленную против существующего правительства, а, наоборот,
продиктованную желанием укрепить его. Эта неуклюжая ложь лишь подчеркивалась иным
вариантом «опровержения», появившимся в нацистской печати 108. Даже
после войны, на Нюрнбергском процессе и в мемуарах, Папен повторяет свою
несостоятельную версию о беседе 4 января, а многие буржуазные историки Западной
Германии поддерживают эту версию 109, несмотря па то, что она давно
опровергнута ходом событий и документами 110
Но и среди буржуазных
историков есть такие, которые в полной мере признают значение решений, принятых
Папеном и Гитлером в Кёльне. «Кёльнская встреча,—пишет, например, Т. Фогельзанг,—
осталась господствующим событием января 1933 года. Все последующее вытекало из
нее или отступало по сравнению с ней на задний план»111.
Непосредственным результатом соглашения Папена с Гитлером было устранение
финансового кризиса нацистской партии. Возвращаясь в Бер-
-----------------------
106 «Cahiers d'histoire de la guerre», 1949, N 1, p. 34—35;
«Nazi Conspiracy and Aggression», vol. II. Washington, 1946, p. 923,
107 Цит. по: K. Hirsch. Die Blutlinie. Frankfurt a / M.,
1960, S. 93.
108 В ответ на первое сообщение о кёльнской встрече Геббельс
вообще заявил, что «национал-социалистская партия отказывается даже
обсуждать эту тему, ибо неправдоподобность подобного известия видна с первого
взгляда» (ЦПА ИДУТ, ф. 215, оп. 1, ед. хр. 210).
109 «Trial of the Major War Criminals...», vol. XVI, p. 261; F.
Papen. Der Wahrheit eine Gasse, S. 256; W. Gorlitz. Hindenburg, S.
397; H. Fraenkel, R. Mannvel. Gobbels, S. 155.
110 Профашист Шахт сразу же оценил всю важность встречи Гитлера
с Папеном для судеб страны, б января он писал Шредеру: «Я надеюсь, что беседа,
состоявшаяся в Вашем доме, приобретет историческое значение» (E. Czlchon. Wer
verhalf Hitler zur Macht?, S. 79).
111 Th. Vogelsang. Reichswehr, Staat und NSDAP, S. 354.
392
лин, Папен встретился в Дюссельдорфе с
Феглером и Шпрингорумом и поставил их в известность о достигнутой с Гитлером
договоренности, после чего они раскрыли кошельки. Попутно участники встречи, по
словам Папена, выяснили общее недовольство политикой правительства Шлейхера.
Если верить Папену, Феглер и Шпрингорум видели первоочередную задачу в
проведении реформы конституции и управления 112. Однако это
маловероятно.
Специально созданный
консорциум крупных промышленников уплатил срочные долги нацистов и выдал им 1
млн. марок для распределения среди штурмовиков и эсэсовцев113. В
середине января в дневнике Геббельса появляется симптоматичная запись: «Финансы
совершенно внезапно улучшились» 114. В эти же дни французская печать
поместила сообщение из Берлина, что «Гитлер, получивший кредиты от иностранных
банкиров, стал чувствовать себя гораздо бодрее»115. И хотя детали
сговора, полным ходом шедшего за кулисами, не были тогда известны, противники
фашизма явственно ощутили резкое усиление опасности установления фашистской
диктатуры.
Огромной тревогой были
пронизаны материалы па эту тему, публиковавшиеся в те дни в центральном органе
КПГ «Роте фане». «Пролетариат должен действовать в этой ситуации
целеустремленно и решительно,— писала газета 8 января.— На его стороне все
шансы на успех, если он создаст единый фронт классовой борьбы и атакует
ослабленную кризисом буржуазию».
Коммунистическая партия
привела своих сторонников в состояние боевой готовности. После того как
Шлейхеру пришлось отменить изданный кабинетом Папена запрет демонстраций,
города Германии стали свидетелями огромных народных манифестаций, проходивших
по инициативе КПГ и направленных против гитлеровских бандитов и их
единомышленников (в правительстве. Так, в Гамбурге 3 января имела
место демонстрация свыше 60 тыс. антифашистов, в Берлине 4 января — более 200
тыс.; многочисленные демонстрации состоялись также в городах промышленного Рура
и др.116 Традиционный митинг 15 января на могилах К. Либкнехта и Р.
Люксембург, несмотря на сильный мороз, был наиболее многолюдным за все прошедшие
годы после убийства. На митинге выступал вождь французских коммунистов Морис
Торез 117. В этот момент все —в еще боль-
---------------------------------
112 F.
von Papen. Vom Scheitern einer Demokratie, S. 344—345.
113 К.
Heiden. Hitler. Zurich, 1936, S. 314; G. W. Hattgarten. Hitler,
Reichswehr und Industrie, S. 116.
114 J.
Gobbels. Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei, S. 243.
115 «Temps», 13.1 1933.
116 «Rote Fahne», 4, 5.1 1933.
117 «Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung», Bd. 4, S.
383—384.
393
![]()
![]() шей степени, чем прежде,— зависело от сплоченности действий
трудящихся масс. Однако руководители СДПГ, оставаясь во власти антикоммунизма,
не собирались изменить своей позиции. Между тем реакция не теряла ни одного
дня, стремясь сгладить внутренние противоречия, разделявшие отдельные
группировки буржуазного лагеря. Место переговоров было перенесено в дом
Риббентропа в Берлине, причем и сюда Гитлер пробирался крадучись, не желая быть
узнанным 118. 10 и 18 января он вновь встретился с Папеном, и после
второй из этих встреч Геббельс с нескрываемым ликованием записал в дневнике:
«Подготовительные работы для свержения кабинета Шлейхера в полном разгаре.
Обсуждаются уже детали». Обо всем, что было предметом этих переговоров, Папен
держал в курсе Гинденбурга, с которым общался втайне от Шлейхера.
шей степени, чем прежде,— зависело от сплоченности действий
трудящихся масс. Однако руководители СДПГ, оставаясь во власти антикоммунизма,
не собирались изменить своей позиции. Между тем реакция не теряла ни одного
дня, стремясь сгладить внутренние противоречия, разделявшие отдельные
группировки буржуазного лагеря. Место переговоров было перенесено в дом
Риббентропа в Берлине, причем и сюда Гитлер пробирался крадучись, не желая быть
узнанным 118. 10 и 18 января он вновь встретился с Папеном, и после
второй из этих встреч Геббельс с нескрываемым ликованием записал в дневнике:
«Подготовительные работы для свержения кабинета Шлейхера в полном разгаре.
Обсуждаются уже детали». Обо всем, что было предметом этих переговоров, Папен
держал в курсе Гинденбурга, с которым общался втайне от Шлейхера.
Здесь-то и была велика роль
статс-секретаря президента Мейсснера, этого Фуше Веймарской республики. Он
занимал свой пост еще при прежнем президенте, социал-демократе Эберте, и
усиленно стремился сохранить его впредь, при предстоящих переменах. С этой
целью Мейсснер встретился с Гитлером, которому заявил, что всегда считал себя
демократом, но что между ним и нацистами не так уже много разногласий; поэтому
Мейсснер обещал делать все от него зависящее, чтобы помочь гитлеровцам 119.
И, действительно, он активно способствовал осуществлению планов гитлеровской
клики, дополнительно заручившись в последние дни прямым обещанием Геринга, что
после своего прихода к власти нацисты оставят его в прежней должности 120.
На заключительной стадии
переговоров, приведших к созданию правительства Гитлера, в них принял живейшее
участие сын президента. Встретившись 22 января с Гитлером на квартире
Риббентропа, он в течение двух часов беседовал с фашистским фюрером с глазу на
глаз. Естественно, что никаких записей этой беседы нет. Но можно не
сомневаться, что разговор вращался вокруг двух основных тем — соблюдения
внешней легальности прихода фашистов к власти и персонального состава будущего
кабинета. Фашисты потому придавали такое значение сохранению видимости
легальности — при абсолютном надругательстве над духом конституции,— что на
этом настаивали и Гинденбург, стремившийся «остаться незапятнанным», и
командование рейхсвера, деятельно помогавшее гитлеровцам, но желавшее, чтобы
передача им_ руля государственного управления была освящена президентом; это
спустя ряд лет подтвердил и
--------------------------------------
118 /. von Rlbbentrop. Zwischen London und Moskau.
Erinnerungen und letzte Aufzeichnungen. Leoni am Starnberger See, 1954, S.
38—39.
119 /. Stoecker. Manner des deutschen Schicksals.
Berlin, 1949, S. 147—148
120 DZAP, Nurnberger Prozesse, Fall XI, N 290, Bl. 23—24. 394
Гитлер 121. Он
«забыл», однако, упомянуть о соображениях, которые были, вероятно, основными
для всех, кто участвовал в подготовке фашистской диктатуры,— страхе перед
возможностью объявления всеобщей массовой забастовки и стремлении максимально
уменьшить ее возможность псевдолегальностью прихода гитлеровцев к власти. Во
время встречи с отпрыском президента Гитлер, без сомнения, подтвердил те
заверения, которые по его поручению Геринг ранее сделал Гинденбургу через
посредство Мейсснера,— что все права и прерогативы президента останутся
нетронутыми 122.
Что касается персонального
состава будущего правительства, то Гинденбург заранее выговорил себе право
назвать кандидатов на посты министра иностранных дел и военного министра.
Первым, согласно его желанию, должен был остаться Нейрат, вторую должность
Гинденбург пожелал вручить генералу Бломбергу, в тот момент командовавшему восточнопрусским
военным округом и являвшемуся членом германской делегации на конференции по
разоружению. В конце декабря он втайне от Шлейхера приезжал из Женевы в Берлин
для переговоров с Гинденбургом. Казалось, президент имел в лице Бломберга
«своего» человека — одного из числа тех, кто был призван «умерять» нацистов и
не допускать «крайностей» с их стороны. На самом деле Бломберг принадлежал к
числу представителей высшего командования рейхсвера, поддерживавших
гитлеровцев, связывавших с приходом Гитлера к власти начало непосредственной
подготовки войны. Будучи в начале 30-х годов с визитом в США, он
пропагандировал нацистскую партию.
С Гитлером Бломберга свел
начальник его штаба Райхенау, давний приверженец фашизма 123, быстро
проделавший в последующие годы путь от подполковника до генерал-фельдмаршала
гитлеровского вермахта. Уже в
---------------------
121 H. Picker. Hitlers Tischgesprache..., S. 428.
122 E. Wickert. Dramatische Tage in Hitlers Reich, S. 39.
123 K. D. Bracher, W. Sauer, G. Schulz. Die nationalsozialistische Machtergreifung,
S. 714; W. Gorlitz, H. Quint. Adolf Hitler. Stuttgart, 1952, S. 318.
124 Одно из писем Гитлера к Райхенау напечатано в журнале
«Vierteljahrshefte fur Zeitgeschichie», 1959, H. 4.
395
власть125,— при условии, что
пост военного министра занят лояльным лицом.
Положение Шлейхера неуклонно
ухудшалось. Не оправдывались планы привлечения гитлеровцев — в какой угодно
форме — к участию в его кабинете. Это не могло не вызвать недовольства тех
кругов, которые считали Шлейхера наиболее подходящим для решения данной задачи
деятелем. Крупные промышленники не были удовлетворены экономической политикой
Шлейхера, в особенности отменой папеновского декрета от 4 сентября (хотя
Шлейхер сделал это отнюдь не по доброй воле, а принужденный стачечной 'волной).
Большинство магнатов капитала относилось неодобрительно к планам создания
«профсоюзной оси». Сильное недовольство тех же кругов вызвали планы организации
общественных работ в той форме, в какой они были предусмотрены Шлейхером.
Мнение крупного капитала по этому вопросу выразил рурский магнат Ростерг в
статье, опубликованной в «Дейче бергверксцейтунг». Ростерг совершенно
недвусмысленно заявил, что нет никакого смысла расходовать средства на
мелиорацию и культурные нужды. Он утверждал, что проблему безработицы можно
разрешить «лишь благодаря полной перестройке нынешней политической системы».
Средства, которые предполагалось ассигновать на общественные работы, Ростерг
требовал передать промышленникам. Он вновь настаивал на полной отмене
тарифных договоров 126. Наконец, промышленники, в особенности
экспортеры, считали, что правительство пошло на слишком большие уступки
аграриям, добивавшимся резкого повышения ввозных пошлин на сельскохозяйственные
продукты 127.
Весьма красочное
представление о настроениях влиятельной прослойки господствующих классов дает
протокол заседания руководящих органов Пангерманского союза, состоявшегося
10—11 декабря
-----------
125 Папен
никак не мог бы отговориться непониманием этого; выступая в Мюнхене, он
коснулся готовности Гитлера допустить участие представителей других партий в
его правительстве. «Разве подобное обещание,—сказал Папен,—что-либо изменило бы
в их (нацистов,— Л. Г.) претензиях на абсолютное руководство?». Папен,
таким образом, как и Гиндeнбург, хорошо знал, что сулит предоставление Гитлеру
поста главы правительства (см. «Deutsche Allgemeine Zeitung», 12.X 1932).
126 См.
«Deutsche Bergwerkszeitung», 7.1 1933.
127 АВП
СССР, ф. 82, п. 60, on. 17, д.
396
ламентаризму. «Я заявляю,— говорил Класс,—
что вообще не вижу спасения для Германии, если этот человек и долее останется в
должности» 128. Правда, добавил в заключение Класс, хорошо знавший Гинденбурга, «есть надежда, что
президент со времени событий 1—2 декабря (речь идет об обстоятельствах смены
правительства.— Л. Г.) в душе уже покончил со Шлейхером и поступит с ним
так же, как в свое врёмя с Брюнингом» 129.
Не лучше, чем с промышленниками,
складывались отношения правительства Шлейхера и с крупными землевладельцами.
Последние также были недовольны, полагая, что в их конфликте с монополиями,
разгоревшемся па рубеже 1932 и 1933 гг., Шлейхер берет сторону последних. 11
января делегация юнкерского «Ландбунда», находившегося под большим влиянием
нацистов, была принята Гинденбургом, который
с большим интересом выслушал новые жалобы аграриев на «недостаточность» помощи,
получаемой ими от государства, и их требования о принятии срочных мер, чтобы
«спасти от гибели» помещиков 130. В официальном протоколе этой
встречи не отражена в полной степени гневная реакция Гинденбурга на ответ
рейхсканцлера, отвергавшего многое из того, что говорили и чего требовали
представители «Ландбунда». Ударив кулаком по столу, президент сказал: «Я требую
от Вас, господин рейхсканцлер, и как старый
солдат Вы знаете, что требование — это только вежливая
форма приказа, чтобы Вы собрали сегодня же вечером правительство, выработали
законопроекты в духе выдвинутых сейчас предложений и завтра утром представили
их мне на подпись» 131.
Но этим не ограничивалась
роль юнкерства в событиях, предшествовавших приходу фашистов к власти. Как и
накануне отставки Брюнинга, Гинденбург оказался под сильнейшим влиянием
крупного землевладения, требовавшего отставки Шлейхера и назначения
рейхсканцлером Гитлера. В январе президента посетили главари восточно-прусского
юнкерства Ольденбург-Янушау, Берг и Остен-Варниц, мнению которых Гинденбург
придавал большее значение, чем точке зрения лидеров всех политических партий,
вместе взятых. Ольденбург-Янушау заявил, в частности, что не имеет каких-либо
возражений против Гитлера ни как консерватор, ни как землевладелец 132.
-----------------------
128 DZAP,
Akten des Alldeutschen Verbands, Bd. 166, Bl. 40.
129 Ibid.,
Bl. 42.
130 DZAP, Buro des Reichsprasidenten, N 333, Bl. 120—126.
131 E. Beck. The Death of the Prussian Republic, p.
185—186. Часть прессы сразу же высказала мнение, что удар, нанесенный
«Ландбундом», окажется чрезвычайно чувствительным. Особенно энергично
доказывала это гитлеровская пресса (АВП
СССР, ф. 82, п. 60, on. 17, д.
132 О. Meissner. Staatssekretar unter Ebert, Hindenburg und
Hitler. Hamburg, 1950, S. 266.
397
Стремление юнкеров к смене
правительства вызывалось еще одним обстоятельством. В одной из комиссий
рейхстага началось рассмотрение того, как и в чью пользу расходуются огромные
средства, ассигнуемые на «Восточную помощь», В ходе рассмотрения выяснились
новые факты вопиющих злоупотреблений, использования сотен тысяч марок на личные
нужды и прихоти крупных землевладельцев, обогащения тех, кто распоряжался этими
средствами, и т. п. Ни одно мелкое хозяйство помощи не получило; из числа
нуждающихся средних хозяйств — только 2%, все остальное пошло на потребу
юнкерам133. Среди «обездоленных», которым были выданы большие суммы,
находились ближайшие родственники супруги Вильгельма II; велись также
переговоры о «санировании» ее собственных имений. Социал-демократ Шмидт,
выступивший на одном из заседаний комиссии, сообщил, что крупные средства из
числа ассигнованных на «Восточную помощь» были переданы гитлеровской партии 134.
Сведения обо всем этом сразу
же проникли в печать. Страх перед дальнейшими разоблачениями весьма
активизировал юнкеров, которые принимали самые различные меры, чтобы помешать
работе комиссии (об этом говорил на заседании 19 января депутат от партии Центра
Эрзинг). Юнкера обвиняли Шлейхера не только в том, что он не препятствует
расследованию, но даже в том, что он «подстроил» само
расследование 135. Крайне активны в разоблачении злоупотреблений,
связанных с «Восточной помощью», были нацисты, рассматривавшие это как средство
шантажа по отношению к Гинденбургу. По мнению бывшего рейхсканцлера Брюнинга,
оно оказалось весьма действенным 136.
На заседании правительства 16
января обнаружилось, что рейхсканцлер пока еще не потерял оптимизма. Он
продолжал рассчитывать на вступление в свой кабинет не только Штрассера, но и
Гугенберга, председателя «Стального шлема» Зельдте и одного из лидеров партии Центра,
Штегервальда, тесно связанного с христианскими профсоюзами. Шлейхер знал, что
-------------------------------
133 DZAP, Protokolle des Ausschusses fur den Reichshaushalt,
N 1457, Bl. 321— 323; N 1458, Bl. 79.
134 F. Lucas. Hindenburg als Reichsprasident. Bonn,
1959, S. 63.
135 Вряд ли это было так; чТ0 же касается
«невмешательства» правительства в заседания комиссии, то оно, вероятно, объяснялось
желанием генерала не обострять отношений с рейхстагом. Подобное желание
стало у Шлейхера еще сильнее, когда он понял, что президент отказывает ему в
полномочиях на роспуск рейхстага. Правда, заседания последнего вновь и вновь
откладывались, ибо ни одна из буржуазных партий, особенно
гитлеровская, не была заинтересована в новых выборах. Но, в конце концов сбор
парламента был назначен на 31 января: после 20 января нацисты внезапно изменили
свою тактику, почувствовав уверенность, что к концу месяца сговор о создании
правительства во главе с Гитлером будет завершен.
136 Н. Bruning. Ein Brief.—«Deutsche
Rundschau», 1947, N 7, S. 14.
398
как раз на тот же день назначена встреча Гугенберга с Гитлером,
но выразил уверенность, что она не приведет к каким-либо результатам 137.
Как видно, бдительность генерала по отношению к проискам соперников изменила
ему. Ибо включение лидера партии националистов в переговоры делало перспективы
образования правительства «национальной концентрации» значительно более
реальными 138.
Гугенберг не только обладал
столь необходимыми нацистам средствами, которые могли позволить им поправить свои
дела. Он представлял определенную группировку монополистического капитала, и,
хотя соперничество между двумя крайне правыми партиями — гитлеровцами и
националистами — за последние месяцы весьма обострилось и ненадежность такого
союзника, как Гитлер, не была секретом для Гугенберга и его коллег, общность
целей толкала последних в объятия нацистов.
На упомянутом заседании
своего кабинета Шлейхер выразил надежду на постепенный сдвиг в умонастроении
населения в пользу правительства; тем не менее генерал не забывал и о
«запасных» вариантах. И здесь точно так же, как это было и с Папеном, речь шла
о всякого рода чрезвычайных, сугубо антидемократических планах нарушения или
отмены конституции. Сохранился любопытный документ — составленная в военном
министерстве записка о возможной тактике по отношению к рейхстагу в случае
принятия им вотума недоверия правительству. Из различных вариантов,
фигурирующих там, предпочтение отдается полному игнорированию этого вотума 139.
Подобный вывод, вероятно, вытекал из того, что Шлейхер не мог добиться санкции
президента на роспуск рейхстага; кроме того, из бесед с политическими
деятелями, в том числе Брейтшейдом (СДПГ) и Каасом (Центр), генерал сделал вывод,
что подобного образа действий следует по возможности избегать 140.
При приверженности подавляющего большинства немцев к букве закона явное и
неприкрытое попрание конституции могло вызвать непредвиденные осложнения. На
законопослушание же сильнейшим образом рассчитывали и участники заговора,
имевшего целью привести гитлеровцев к власти при формальном соблюдении
легальности.
-----------------------
137 DZAP, Reichskanzlei, Kabinettssitzungen, N 755, Bl. 791449.
138 В конечном итоге именно согласие лидера националистов на
коалицию с гитлеровцами решило дело. Тем не менее, буржуазные авторы не
прекращают попыток обелить Гугенберга (см. «Das Ende der Parteien 1933».
Dusseldorf, 1960, S. 599 ff; «Hugenbergs Ringen in Deutschlands
Schicksalsstunden». Detmold, 1951).
139 DZAP, Reichskanzlei, Kabinettssitzungen, N 755, Bl. 791456.
Характерно, что в качестве «обоснования» возможности роспуска рейхстага
фигурировало решение прусского ландтага призвать чиновников к неповиновению
правительству, что «мог бы» повторить и рейхстаг.
140 DZAP, Buro des Reichsprasidenten, N 47, Bl. 567.
399
Исход напряженной классовой
схватки, развернувшейся в Германии начала 30-х годов, зависел, однако, отнюдь
не только от воли монополистов, не от того или иного соглашения группировок
крупного капитала. Их замыслы могли быть сорваны решительными, сплоченными
действиями трудящихся масс. Реакция до последней минуты считалась с
возможностью объявления всеобщей забастовки. Это признал Гитлер на первом же
заседании возглавляемого им правительства 141. И немалые основания
для таких опасений у правящих кругов были. Подъем стачечного движения, успехи
«Антифашистской акции», многолюдные демонстрации, проходившие, несмотря на
запрет, а еще с большим размахом развернувшиеся после того, как правительство
Шлейхера вынуждено было снять этот запрет, резко усилившееся в «низах»
социал-демократии стремление к установлению единства с коммунистами — все это
не могло не внушать тревоги организаторам заговора против республиканского
строя.
Красноречивое свидетельство
тому — полицейские обзоры положения, относящиеся к концу
Идя к власти, германские
фашисты направляли свой главный удар против революционного авангарда рабочего
класса 143. Но антикоммунизм в то же время являлся для нацистов
орудием запугивания тех слоев населения, которые не имели ясного представления
о целях пролетариата и его марксистской партии, и привлечения их на свою
сторону или нейтрализации. В действительности фашисты стремились уничтожить не
только КПГ, но все другие демократические организации, конституционные права и
свободы и, как выяснилось позднее, вообще все политические организации, кроме
нацистской как единственной выразительницы интересов монополистического
капитала. А антикоммунизм, разжиганию которого немало способствовали в
рассматриваемое время и лидеры социал-демократии, послу-
------------------------
141 «Documents of German Foreign Policy», Series C, vol. I.
Washington, 1957, p. 5.
142 DZAP, Reichsministerium des Innern, N 26153, Bl. 53.
143 Главный враг, говорил Гитлер,— это коммунизм, ибо только он
располагает идеологией (Е. Calic. Ohne Maske. Frankfurt a/M., 1968, S.
69).
400
жил весьма удобным прикрытием для
осуществления широких замыслов германских монополий.
Версию о мнимом
«коммунистическом заговоре» в Германии начала 30-х годов повторяют некоторые
буржуазные историки, фальсифицирующие историю прихода фашистов к власти в
Германии и в наши дни. Подобную точку зрения пропагандирует например, Г.
Беннеке, в прошлом командир штурмового отряда, а ныне историограф нацизма. По
его мнению, в современных условиях выгоднее вернуться к старой фашистской
версии «коммунистического заговора», при помощи которой гитлеровцы пролагали
себе путь к власти и которую они позднее использовали при поджоге рейхстага для
расправы с политическими противниками 144.
Утверждения гитлеровцев и их
единомышленников-историков противоречат фактам, а также свидетельствам людей,
ближе всего стоявших к событиям. К тем, кто начисто отрицал нацистскую версию,
принадлежал, в частности, сам Шлейхер. Отвечая в январе
Это отнюдь не значит, что в
Германии тех лет не было массового революционного движения. Здесь существовала
наиболее крепкая и многочисленная (за пределами Советского Союза)
коммунистическая партия, насчитывавшая осенью
Факты решительно противоречат
клеветническим утверждениям буржуазных историков, упорно пытающихся взвалить на
-------------------
144 Н. Bennecke. Alternativen der Not: Schleicher,
Burgerkrieg oder Hitler.— «Poiitische Studien», 1963, N 150, S. 456.
145 «Zur Politik Scheichers gegenuber der NSDAP 1932».—
«Vierteljahrshefte fur Zeitgeschichte», 1958, FI. 1, S. 90.
146 «Geschichte der deutschen Arbeiterbcwegung», Bd. 4, S. 370.
401
Коммунистическую партию
Германии ответственность за приход фашистов к власти. Многочисленные документы,
приведенные выше, изобличают подлинных 'виновников этого рокового события —
монополистический капитал Германии, поддержанный наиболее реакционными
элементами крупной буржуазии США и Англии. Велика историческая ответственность
за это руководства социал-демократической партии и реформистских профсоюзов.
Что же касается К.ПГ, то она, несмотря на ошибки, допущенные в рассматриваемый
период, была единственным последовательным, принципиальным и неутомимым борцом
против реакции и фашизма во всех их разновидностях. Не случайно именно против
коммунистической партии была направлена главная сила удара фашистов.
По мере того как опасность
прихода гитлеровской клики становилась все реальнее, нарастала борьба немецких
пролетариев, руководимых коммунистической партией, против фашизма. Партия
вовлекала в движение '«Антифашистской акции» все новые слои трудящихся —
социал-демократов и беспартийных. Продолжала шириться забастовочная борьба, в
которой ярко воплотились потенциальные возможности единого фронта, его
осуществимость и жизненная сила. О том же говорили и успехи в деле оттеснения
фашистов от руководства органами местного самоуправления. Так, в начале января
Но к величайшему сожалению,
сказывалась та пагубная роль, которую продолжали играть руководители
социал-демократии и профсоюзов. Эти люди уже не располагали неограниченным
влиянием на рабочий класс, каким пользовались, например, в начале первой
мировой войны. Но лидеры СДПГ еще вели за собой хоть и поредевшую, но довольно
значительную часть рабочего класса, и этого было вполне достаточно, чтобы
помешать созданию единого фронта в масштабах всей страны. И в последние,
решающие недели января
-----------------------------
147 DZAP, Reichsministerium des Innern, N 26153, BI. 581.
402
лялась на каждом шагу с еще большим
упорством и ожесточением.
Об этом весьма ярко
свидетельствует брошюра, изданная Правлением партии в январе
Другой стороной той же
практики были уверения в... «надежности» Гинденбурга. Игнорируя эпопею Папена,
события 20 июля и все последующее, лидеры партии твердили: «Президент
республики поручился присягой и словом, что он не пойдет на разрыв конституции»
151. Под это подводился «теоре-
------------------------------------
148 « ЦПА ИМЛ, ф. 215, on. 1, ед. хр. 94.
149 Об этом говорит, например, листовка,
выпущенная СДПГ к выборам в ноябре
150 «Das freie Wort», 1933, N 4, S. 98—99.
151 «Vorwarts», 20.Г 1933.
403
тический» базис, заключавшийся в ложном тезисе,
что «президиальная» власть будто бы борется против фашизма. Явления
междоусобной розни в лагере реакции, соперничества за долю государственного
пирога, имевшие место в конце
Употреблялся и еще один
прием, как будто прямо противоположный перечисленным: громкие слова о
готовности к борьбе, которая-де будет начата «в нужный момент по сигналу». Вот
что говорилось, например, в воззвании Правления СДПГ от 5 декабря
Особенно наглядным примером
пагубного курса руководителей СДПГ была их позиция в связи с наглой фашистской
провокацией, предпринятой в момент, когда нацисты уже считали свой приход к
власти делом дней. Гитлеровцы вознамерились провести 22 января свою
демонстрацию на площади Бюлова в Берлине — там, где находился знаменитый дом
им. К. Либкнехта, в котором были расположены центральные учреждения КПГ,
редакция «Роте фане» и т. д. Фашисты явно устраивали пробу сил, провоцируя
рабочий класс и прекрасно зная, что полиция будет опекать и защищать их.
Проиграть эту пробу сил значило признать себя побежденными. Коммунистическая
партия сразу же разгадала цель фашистской затеи, которая должна была поднять
пошатнувшуюся в последние месяцы популярность нацистской партии. КПГ приняла
решение провести в тот же день контрдемонстрацию, но полиция запретила ее.
КПГ обратилась к массам,
подчеркивая, что положение крайне серьезное, что необходима максимальная
бдительность к проискам реакции. «Будущее воскресенье (22 января.—
---------
152 «Das
freie Wort», 1933, N 4, S. 98.
153 «Vorwarts», 6.XII 1932.
404
Л. Г.),— подчеркивалось в воззвании КПГ,— имеет для всех немецких
трудящихся неслыханное значение. Террор и учащающиеся нападения призваны
служить подготовке новых попыток контрреволюционного государственного
переворота» 154. Партия призвала рабочих германской столицы оказать
энергичный отпор фашистской провокации, показать нацистским бандитам
сплоченность своих рядов. В листовке, подписанной «Революционные рабочие
Берлина», говорилось: '«Красный Берлин, ответь! Покажи обнаглевшим фашистским
убийцам свою силу! Ответь на эту дикую провокацию небывалым массовым протестом
всех рабочих!» 155.
Но усилия компартии отразить
решительное наступление фашизма не были ни в малейшей степени поддержаны
лидерами СДПГ. Наоборот, последние вновь нанесли революционным пролетариям удар
в спину. 21 января «Форвертс» напечатал решение социал-демократического
руководства о запрете членам партии принимать участие в отпоре фашистской
вылазке. «Политически грамотные и дисциплинированные массы социал-демократии,— было
сказано в этом уникальном документе,— следуют указаниям только своей
партии». Повторялась, но в значительно более напряженной и серьезной обстановке
та недальновидная тактика, которой социал-демократия придерживалась летом
В течение нескольких дней,
предшествовавших 22 января, «Роте фане» публиковала резолюции различных
предприятий Берлина, выражавших горячий протест против готовившейся при помощи
властей гитлеровской провокации и решимость оказать ей сопротивление. Эти документы
свидетельствуют, что немецкий рабочий класс отнюдь не был сломлен, а бескровная
победа фашизма в январе
-------------------------
154 «Die Antifaschistische Aktion», S. 336.
155 Ibid., S. 333.
405
Фашистская вылазка не имела
успеха—это вынуждены были признать даже многие буржуазные газеты. «Фоссише
цейтунг» отмечала, что нацистских демонстрантов было 16 тыс., а полицейских,
оберегающих их,— 14 тыс. «Штурмовики шагали между двумя рядами полицейских
чиновников,— писала «Берлинер тагеблат»,— охраняемые тысячами полицейских
карабинов». «Свистки, ругань, крики «долой!» по отношению к национал-социалистам,—
так рисовала картину происходившего на берлинских улицах 22 января газета
«12-ур блат».—Повсюду образуются колонны коммунистов, пытающихся прорвать
полицейское оцепление. Захвачены нацистские знамена». Буржуазная печать,
естественно, не склонна была преувеличивать размах отпора фашистским демонстрантам.
Полную характеристику событий этого дня дал в своей статье, опубликованной в
«Роте фане», Э. Тельман. «Рабочие Берлина,— отметил он,— сохраняя революционную
дисциплину, сковали вокруг нацистов железное кольцо изоляции» 15S.
Уже в течение ряда лет не было на улицах германской столицы такого количества
пролетариев, как в этот январский день. Даже по официальным данным, полиция
разогнала 19 колонн революционных рабочих.
Но этим нельзя было
ограничиться. Коммунистическая партия решила в ближайший же день — 25 января —
провести контрдемонстрацию трудящихся Берлина. Она мыслилась как мощное
совместное выступление рабочих независимо от партийной принадлежности.
Тем не менее, и здесь
социал-демократические заправилы остались верны себе: они отказались от единой
демонстрации, назначив на 29 января свою, сепаратную. И это тогда, когда
в печати уже открыто, обсуждался состав будущего правительства фашистской
диктатуры.
25 января трудовая Германия в
последний раз перед воцарением гитлеровской клики показала всему миру, что в
стране есть силы, не только страстно желающие, но и полные готовности помешать
торжеству фашизма. Несмотря на необычный для этих мест жестокий мороз, в
Берлине состоялось грандиозное антифашистское шествие революционных
пролетариев.
Даже по признанию буржуазной
печати, демонстрация 25 января
---------
156 «Rote
Fahne», 26.I 1933.
157 «Geschichte
der deutschen Arbeiterbewegung», Bd. 4, S. 384.
406
Мощные демонстрации
состоялись в эти дни также в ряде других городов, в частности в Аугсбурге,
Дрездене, Эрфурте, Мюнхене 158. В Дрездене с самого начала
обнаружилось стремление полиции спровоцировать рабочих. Благодаря выдержке
участников демонстрация прошла без серьезных инцидентов. Но гнусная
провокация все же была совершена: в тот же день на собрании Союза борьбы против
фашизма вдруг раздался выстрел, и полицейские, находившиеся в зале, не пытаясь
разобраться, открыли стрельбу по безоружной толпе. Девять человек было убито,
большое количество ранено.
31 января в Дрездене
состоялись похороны жертв расстрела. Участвовало свыше 30 тыс. человек, среди
которых находились не только отряды Союза борьбы против фашизма, но и части
«Рейхсбаннера». Полиция вынуждена была отступить 1Б9.
Гитлер у власти
Мощные выступления трудящихся
в Берлине, Дрездене и других местах были недвусмысленным предупреждением,
правящим кругам. Но позиция социал-демократического руководства говорила
реакционерам, что им, тем не менее, удастся безнаказанно осуществить свои
черные замыслы. Именно в те дни, когда рабочий Берлин вышел на улицы, чтобы
выразить пламенный протест против фашизма, заговорщики с удвоенной энергией
вели свой торг, стремясь выговорить себе и своей группе большую долю в добыче,
которую несло с собой установление фашистской диктатуры. Помимо грызни из-за
распределения портфелей, возник спорный вопрос, грозивший торпедировать весь
заговор. Он был вызван настойчивым стремлением гитлеровцев распустить рейхстаг,
чему решительно воспротивился Гугенберг. Гитлеровцы рассчитывали, овладев
основным рычагом государственной власти, добиться резкого изменения соотношения
сил в рейхстаге за счет союзников по коалиции. Национальная же партия,
выигравшая на выборах 6 ноября, могла лишь потерять голоса; ее лидеры опасались
нового усиления нацистов, понимая, что тогда позиции других участников коалиции
значительно ухудшатся.
Гитлер утверждал, будто ему
удалось еще до 30 января убедить Гугенберга в необходимости роспуска рейхстага,
удовлетворив все его притязания на министерские посты160; маленький
лидер националистов стремился стать чем-то вроде хо-
-----------------------------------
158 Ibidem.
160 H. Picker. Hitlers Tischgesprache,
S, 430.
407
зяйственного диктатора, сосредоточив в
своих руках министерства экономики и сельского хозяйства и в масштабе империи,
и в Пруссии. Это требование отражало желание монополистов «обезопасить»
экономику от вмешательства нацистских демагогов и дилетантов 161.
Но, вопреки утверждению Гитлера, роспуск рейхстага был камнем
преткновения чуть ли не до момента присяги нового правительства; слишком велики
были опасения участников коалиции перед возможными последствиями «победы»
нацистов на выборах. Ведь не далее как 30 декабря
Что касается Шлейхера и его
кабинета, то после 20 января у них не оставалось никаких сомнений в провале
усилий расколоть нацистскую партию;'23 и 26 января генерал предпринял последние
попытки добиться у Гинденбурга полномочий на роспуск рейхстага и провозглашение
«чрезвычайного положения», которое, по уверениям Шлейхера, не встретило бы
такого противодействия со стороны профсоюзов и СДПГ, как двумя месяцами ранее.
Но он вновь получил отказ —ведь к тому времени уже фактически были завершены
переговоры о создании Правительства фашистской диктатуры (о чем Шлейхер был
осведомлен весьма недостаточно. 28 января состоялось последнее заседание
правительства; выяснилось, что не остается ничего иного, как подать в отставку.
На этом заседании Шлейхер а его коллеги обсудили вопрос о возможном преемнике и
резко высказались против Паттена или Гугенберга как кандидатов в рейхсканцлеры;
было даже решено довести это через Нейрата до сведения Гинденбурга. Симпатии
министров — самого Шлейхера, Шверин-Крозигка и др.— были недвусмысленно на
стороне Гитлера 163.
Для Шлейхера подобный поворот
может показаться неожиданным; но не следует забывать, что он был не только и
даже
-----------------------------
161 Намереваясь использовать фашистов как орудие подавления
революционного движения, промышленники не только стремились покончить с
антикапиталистической демагогией нацистов, но вообще свести к минимуму их
будущую роль в решении экономических вопросов. Даже настроенный сугубо
пронацистски Плейгер в беседах с Федером и гаулейтером Вестфалии Вагнером в
конце
162 «Ursachen
und Folgen vom deutschen Zusammenbruch 1918 und 1945», Bd. VIII.
163 E.
Beck. The Death of the Prussian Pepublic, p. 193. Эту тенденцию полпред СССР в Германии Л.
М. Хинчук отметил еще в конце ноября
408
не столько политическим деятелем, сколько
генералом. А военщина была не последней среди тех общественных сил, которые
старались привести гитлеровцев к власти: 'милитаристам не могло не
импонировать, что у них с фашистами совпадает и основная цель — организация
реваншистской войны — и главные методы ее достижения. У Шлейхера были в
последние месяцы возражения против некоторых фашистских притязаний, но когда
его собственные планы потерпели провал, он, ни минуты не колеблясь, вновь
высказался за кандидатуру Гитлера в рейхсканцлеры 164 Шлейхер даже
рассчитывал на сохранение в своих руках военного министерства в новом кабинете
(не зная, что на этот пост уже предназначен Бломберг).
Аналогичную позицию занял и
другой высший представитель вооруженных сил — глава рейхсвера генерал
Гаммерштейн. Встретившись со Шлейхером 29 января
В работах буржуазных
историков часто предпринимаются попытки обелить военщину, снять с нее клеймо
активного соучастия в установлении гитлеровской диктатуры. Вот что утверждает,
например, «модный» западногерманский автор Аретин: «В деле передачи власти
Гитлеру рейхсвер играл только пассивную роль»166. С целью убедить в
этом читателей Аретин и другие применяют самые разнообразные ухищрения и
уловки. Тем не менее, им не под силу доказать недоказуемое. Тяжелая
историческая ответственность германской военщины за приход фашистов к власти
разоблачается не только в трудах историков-марксистов; ряд честных буржуазных
ученых также признает и показывает эту вину. Вот что пишет, например,
английский историк Уилер-Беннет: «Нет ничего более позорного и глупого, чем
действия армии в течение всего этого периода»167. На сей счет есть и
такие неопровержимые свиде-
---------------------------
164 Помимо уже отмеченного выше согласия Шлейхера как
представителя генералитета с назначением Гитлера рейхсканцлером, высказанного
во время переговоров 12—13 августа
165 К. D. Bracker. Die Auflosung
der Weimarer Republik. Stuttgart
— Dusseldorf, 1955, S.
733—734.
166 K. O. Aretin, G. Fauth. Die Machtergreifung. Munchen, 1959, S. 61.
167 J. Wheeler-Bennett. The
Nemesis of the Power. New York, 1954, p. 284.
409
тельства, как публичные благодарности,
которые нацистские главари расточали генералитету после своего прихода к
власти. «Господа генералы, господа офицеры,— говорил Гитлер на съезде
нацистской партии в
После отставки Шлейхера
президент уже открыто поручил своему доверенному лицу Папену провести
переговоры о создании нового правительства. Завершалась зловещая миссия,
принятая и выполненная до конца Папеном. Он сам говорил об этом позднее так: «Я
был избран благосклонной судьбой, чтобы объединить руки нашего канцлера и
фюрера и нашего любимого фельдмаршала» 169 Уже одного только этого
преступления, хотя на совести Папена было много других черных дел, было бы
достаточно, чтобы присудить его к высшей мере наказания. Но на Нюрнбергском
суде над главными немецкими военными преступниками Папен сумел избежать
наказания: голосами членов трибунала от США, Англии и Франции матерый
преступник, открывший Гитлеру путь в рейхсканцелярию, был оправдан, как и
другой профашист, несущий столь же тяжелую историческую вину перед
немецким и другими народами за это злодеяние,— Шахт.
Помимо Нейрата,
Шверин-Крозигка, Гюртнера и Эльц фон Рюбенаха, оставшихся на своих местах, в
новое правительство должны'были войти Папен в качестве вице-канцлера и
имперского комиссара Пруссии, Гугенберг, претендовавший на оба экономических
министерства, Бломберг — военный министр, председатель «Стального шлема»
Зельдте — министр труда и два гитлеровца — Фрик, нацелившийся на одну из самых
важных позиций — министерство внутренних дел, и Геринг, собиравшийся возглавить
вновь создаваемое министерство воздухоплавания (и, кроме того, прусское
министерство внутренних дел).
«Правительство Гитлера
мыслилось как коалиция нацистов и Национальной партии (вместе с примыкавшим к
ней «Стальным шлемом»). Но тут неожиданно заявили о себе те, кого ход событий
оставил в стороне: партия Центра и ее филиал — Баварская народная партия. В
своих мемуарах Папен сообщает, что 28 января к нему обратился председатель
последней Шефер и от своего и Брюнинга имени заявил о согласии войти в
правительство Гитлера 170. Правда, Брюнинг попытался отрицать этот
факт, но сам Шефер в
-------------------
168 К. D. Bracher,
169 «Nazi Conspiracy and Aggression», vol. VI. Washington,
1947, p. 101.
170 F. Papen. Der Wahrheit eine Gasse, S. 264.
410
ному эпизоду, подтвердив, что он
действительно обращался к Папену на предмет участия в правительстве, причем не
только от Баварской народной партии, но и от Центра1П. Получив отказ,
лидеры Центра не успокоились и сразу после создания фашистского кабинета,
31 января, продолжили переговоры, уже с самим Гитлером. Речь шла об условиях
поддержки нового правительства партией Центра, причем, как заявил ее
председатель, «в принципе дело заключается не в том, кто правит, а в том, чего
добивается правительство и что оно предпринимает» 172. Еще один
штрих к политической характеристике католических политиканов. Но в
Отставка Шлейхера в сочетании
с сообщениями о близком сговоре правящих кругов с Гитлером означала приближение
самой грозной, смертельной опасности для всех трудящихся Германии. Как же
реагировали на нее рабочие партии?
В эти дни, когда все еще
можно было сделать последнее отчаянное усилие и раздавить фашистскую гадину,
пока она не укрепилась у власти, руководители СДПГ сохраняли олимпийское
спокойствие. Их опасения вызывала только возможность возвращения Папена на пост
рейхсканцлера! Как и прежде, они мыслили исключительно парламентскими
категориями. Исходя из этого, социал-демократические лидеры — чудовищно, но
факт —отдавали предпочтение Гитлеру, если он будет располагать большинством в
рейхстаге, перед президиальным кабинетом Папена!
Вот что писал «Форвертс» в
своем вечернем издании 28 января; «Гарцбургский фронт без парламентского
большинства означает государственный переворот и гражданскую войну...
Конституционность может быть обеспечена, если только Гитлер создаст
парламентское большинство и если будет дана гарантия, что Гитлер
исчезнет, как только он потеряет это большинство». Как будто бы не было
многолетнего опыта кровавой борьбы гитлеровской клики за единовластие, как
будто фашисты
------------------------
171 «Politische Studien», 1963, N 147, S. 61.
172 «Vierteljahrshefte fur Zeitgeschichte», 1961, N 2, S. 188.
173 Католические деятели уже прочно сжились с мыслью о передаче
власти гитлеровцам. Выступая в декабре
411
не пропагандировали диктатуру и открыто не
стремились к ликвидации демократических учреждений!
В том же духе была составлена
телеграмма, направленная Гинденбургу лидерами реформистских и христианских
профсоюзов. «Профсоюзы ожидают,— говорилось в этом документе,— что Вы, господин
президент, окажете решительное сопротивление всем стремлениям, имеющим целью
осуществить государственный переворот, и настаивают на конституционном решении
кризиса»174. Независимо от того, хотели ли того
социал-демократические и профсоюзные лидеры (а многие из них безусловно желали
предотвратить приход фашистов к власти), их позиция способствовала успеху
гитлеровской клики 175.
Совершенно иной была реакция
коммунистической партии. Непосредственное приближение грозной опасности КПГ
сигнализировала в течение всего месяца — с того момента, как в печати появились
сообщения о закулисных переговорах Папена с Гитлером. Отставку же Шлейхера
партия восприняла как прямое предвестие величайшей угрозы, вплотную
надвинувшейся на рабочий класс, на всех трудящихся Германии.
«Тревога! Тревога! Грозит
новое 20 июля!» —с такой шапкой через всю первую страницу вышел номер «Роте
фане» 29 января
Били в набат и местные
организации КПГ. «Антифашисты, тревога! Грозит правительство Гитлера—Папена!
Готовьтесь к массовой политической забастовке! Все на улицу, организуйте
могучие массовые демонстрации!»— так начиналась листовка, выпущенная рурским
окружным комитетом КПГ. А вот что говорилось в листовке, изданной комитетом КПГ
округа Гессен — Франкфурт: «Коммунистическая партия, стремясь в эти
-----------------------------
174 «Vorwarts»,
28.I 1933.
175 S. Vietzke.
Die Kapitulatition der rechten SPD-Fuhrung vor dem Hitlerfaschismus Ende
Januar/Anfang Februar 1933.— «Zeitschrift
fur Geschichtswissenschaft», 1963, H. 1.
412
серьезные часы, когда на трудящийся народ
вплотную надвигается страшная угроза контрреволюции, ввести в действие все
антифашистские силы, повторяет предложения о совместных и решительных действиях
против фашистской реакции, уже сделанные 20 июля всем рабочим и членам СДПГ и
профсоюзов и их местным организациям» 1?6. Главным было тогда убедить
всех рабочих, к каким бы организациям они ни принадлежали, что наступил
именно тот последний час, о котором так много говорили
социал-демократические лидеры, вновь и вновь откладывая борьбу. Не Папен и его
единомышленники представляли главную опасность, как считали руководители
социал-демократической партии (хотя дальнейшее пребывание монархистской клики у
власти также было чревато всякого рода неожиданностями), а гитлеровская
диктатура —неминуемое следствие включения нацистов в правительство и
предоставления Гитлеру поста рейхсканцлера.
Чрезвычайно характерно, что
полицей-президент Берлина запретил все митинги коммунистической партии и
примыкавших к ней организаций, в то время как социал-демократическая
демонстрация, назначенная на 29 января, была разрешена. «Роте фане» писала: «Из
этого можно сделать вывод, что Мельхер и Брахт ожидают от вождей СДПГ, что они
призовут рабочие массы к «спокойствию и рассудительности», к игнорированию
боевых лозунгов коммунистов». Газета обращалась к сторонникам СДПГ: «Мы
предупреждаем Вас, что Ваше руководство будет действовать в точности так же,
как полгода назад»177. И в расчете на это правящие
круги решились на шаг, который они давно готовили, но сделать который все же
так долго боялись. Пресса монополий усиленно подчеркивала в эти дни, что
наступила пора покончить с «половинчатыми решениями». «При помощи тактических
средств,— писала «Дейче берг-верксцейтунг»,— нельзя добиться поворота в судьбах
Германии» 178. Стремление подготовить реванш, страх перед
собственным народом и неуверенность в том, к какому лагерю примкнут миллионы людей,
начавших отходить от нацистской партии, побудили германскую буржуазию временно
отодвинуть в сторону противоречия отдельных монополистических групп. Их
«приноравливание» друг к другу проходило с огромным трудом. Гугенберг продолжал
сопротивляться роспуску рейхстага, чувствуя, чем это грозит, и даже некоторые
деятели его партии, сами ярые националисты, резко возражали против блока с
гитлеровцами.
-------------------------------
176 «Die Antifaschistische Aktion», S. 346, 351—352.
177 «Rote Fahne», 29.1 1933.
178 «Deutsche Bergwerkszeitung», 22, 29.1 1933.
413
Уже упоминавшийся
Клейст-Шменцин (впоследствии казненный за участие в антигитлеровском заговоре),
если верить его записке, составленной через год после рассматриваемых
событий, сказал Папену: «Люди, не имеющие мужества отвергнуть сумасбродные
домогательства человека, чья партия распадется, если решительно отвернуться от
нее, а, наоборот, помогающие ему достичь невиданной власти, не смогут с ним
совладать в дальнейшем»179. Свою записку автор кончал словами:
«Немецкая Национальная партия и «Стальной шлем» совершили предательство по
отношению к Германии». Клейст-Шменцин был, безусловно, прав в этом; он ошибался
лишь, полагая, что его политические друзья «не имели мужества» отвергнуть
Гитлера. Они поступали вполне обдуманно, будучи солидарны с гитлеровцами в
главном и надеясь верховодить в новом правительстве.
Торг чуть не зашел в тупик,
но в ночь на 30 января появился неожиданный ускоритель событий; им оказалось
телефонное сообщение, полученное Мейсснером и гласившее, что Шлейхер организует
военный путч, намереваясь арестовать президента и его сына, а также самого
Мейсснера180. Известие произвело впечатление разорвавшейся бомбы.
Гитлер потребовал поставить Гинденбурга в известность о «планах Шлейхера», и
это быстро решило дело. На утро 30 января был назначен прием у президента,
чтобы в случае урегулирования всех разногласий принять у членов нового
правительства присягу. Характерно, что ни один из участников сговора не
поинтересовался, откуда исходят слухи о «военном путче», не подумал проверить
их. И зачем — ведь они как нельзя лучше соответствовали намерениям тех, кто
добивался быстрейшего создания правительства фашистской диктатуры.
А проверка, даже самая
поверхностная, обнаружила бы, что подобные слухи лишены какого бы то ни было
основания. Автор их, председатель аристократического «Клуба господ» (к которому
принадлежал Папен) Альвенслебен, особенно не скрывал, что «сообщение» высосано
им из пальца 181. Альвенслебен
------------------------
179 E. von Kleist-Schmenzin. Die letzte Moglichkeit— «Politische Sludien», 1959, N 106, S. 92. Подобный же
характер носило письмо генерала Людендорфа, которое он направил Гинденбургу 1
февраля
180 Th. Vogelsang. Reichswehr, Staat und NSDAP, S. 397.
181 F. Papen, Der Wahrheit eine Gasse, S. 274; 5. Delmer. Trail
Sinister. London, 1961, p. 172.
414
был весьма близок к нацистам, и можно не
сомневаться, что именно по их заданию он пустил «утку», которая должна была
запугать президента и его окружение и привести затянувшиеся переговоры к концу.
Как можно судить по имеющимся
документам, Шлейхер все еще рассчитывал на участие в будущем правительстве. По
некоторым сведениям, после своей отставки Шлейхер связался по телефону с О.
Вольфом, который рекомендовал ему прибегнуть, наконец, к чрезвычайным мерам:
объявить осадное положение, арестовать генерала Бломберга, а самого Гинденбурга
выслать в Восточную Пруссию182. Проверить это сообщение невозможно,
но фактом остается, что так или иначе Шлейхер не предпринял попытки осуществить
эти рекомендации.
В конечном итоге Гугенберг согласился
на требования гитлеровцев, предопределив тем самым судьбу своей партии и
остальных «союзников» Гитлера. 30 января
Коммунистическая партия
сделала поистине героическую попытку поднять массы на отпор государственному
перевороту, совершенному господствующими классами. Ибо передача власти
гитлеровцам, хотя она и была замаскирована псевдолегальностью, являлась — это признают
даже буржуазные ученые —грубым нарушением конституции183. В этот
критический для судеб германского народа, для будущего всех пародов Европы
момент Коммунистическая партия Германии призвала к немедленному объявлению
всеобщей забастовки.
«Над Германией
устанавливается кровавый, варварский террористический режим фашизма,—
говорилось в воззвании КПГ от 30 января.— Массы, не допустите, чтобы
смертельные враги немецкого народа, смертельные враги рабочих и бедных
крестьян, трудящихся города и деревни осуществили свое преступление!.. Все на
улицы! Прекращайте работу! Немедленно отвечайте на наступление фашистских
кровавых собак забастовкой, массовой забастовкой, всеобщей забастовкой!»184.
ЦК КПГ обратился к Правлению СДПГ с настоятельным предложением о совместном
отпоре фашистским убийцам, которые захватили
------------------
182 «Frankfurter Hefte», 1956, N 3, S. 169.
183 К. Revermann. Die stufenweise
Durchbreсhung des Verfassungssystems der Weimarer Republik in den Jahren 1930 bis
1933. Munster, 1959, S. 88.
184 «Die Antifaschistische Aktion», S. 354—356.
415
власть, чтобы покончить с организованным
рабочим движением. Но руководство социал-демократической партии отклонило
предложение КПГ, хотя массы приверженцев СДПГ, как и 20 июля
О глубине падения
социал-демократических лидеров свидетельствуют многие документы тех дней. Вот
что, например, писал «Форвертс» 31 января в редакционной статье, посвященной
приходу Гитлера к власти: «Выступая против этого правительства, угрожающего
государственным переворотом, социал-демократия и весь «Железный фронт» обеими
ногами опираются на почву конституции и законности. Они не оставят эту
почву первыми», О том же шла речь в воззвании Правления СДПГ и
социал-демократической фракции в рейхстаге: «Мы ведем борьбу на почве
конституции... Недисциплинированные преждевременные выступления отдельных
организаций или групп, предпринятые по собственной инициативе, принесут всему
рабочему классу огромный вред». К «хладнокровию и рассудительности» звали
трудящихся в момент установления гитлеровской диктатуры и руководящие органы профсоюзов
всех направлений.
Еще более недвусмысленно
выражался «Форвертс» в передовой статье от 31 января, в которой речь шла о
лозунге всеобщей забастовки. Газета признавала такую забастовку вполне
легальным средством, но лишь для того, чтобы заявить: «Однако тактический разум
говорит, что следует воздержаться от применения этого средства, чтобы рабочий
класс не оказался бессильным в решающий момент. Скоро все может измениться—в
наше время обстоятельства и тактика меняются очень скоро! Начинать всеобщую забастовку
сегодня означало бы бесцельно израсходовать боеприпасы рабочего класса».
Таким образом, правые
социал-демократы . даже после прихода Гитлера к власти продолжали твердить, что
«решающий момент» еще впереди. Вряд ли может быть более яркое свидетельство
полного банкротства тогдашнего руководства СДПГ. Не удивительно, что буржуазная
печать с большим удовлетворением отзывалась о «выжидательной позиции» СДПГ.
------------------
185 Совсем незадолго до этих событий, 15
января, К. Мирендорф, которого рассматривали как «надежду» партии, ориентировал
на саботаж всеобщей забастовки. Очень высоко отозвавшись о ее потенциальных
возможностях «вообще», он далее писал: «Но в нынешней ситуации
было бы беспримерным забвением своей ответственности сеять в массах иллюзии о
действенности этого средства и в оборонительной борьбе... В современной
обстановке внепарламентская борьба — это в первую очередь борьба за господство
над общественным мнением»! («Deutsche Republik», 1933, N 16, S. 487).
416
Так, орган крупного капитала «Берлинер
берзенцейтунг» писал: «В то время как коммунисты резко усилили свои действия по
организации всеобщей забастовки, социал-демократия как будто пока не склонна
атаковать правительство иначе, чем при помощи речей, передовых статей и
воззваний» 186.
Разоблачая колоссальный вред
распространявшихся социал-демократическими лидерами представлений, «Роте фане»
4 февраля писала: «Это не парламентское правительство, которое уйдет в
отставку, если большинство будущего рейхстага выскажется против него. Питать
подобную иллюзию, как делают сегодня Вельсы и Лейпарты,— преступление...
Веление момента— разрушение этой иллюзии, создание у всех трудящихся ясности о
подлинном характере диктатуры, показ того, что в этом правительстве буржуазия
сконцентрировала все свои силы для защиты обанкротившейся экономической
системы».
Компартия использовала в те
дни все доступные ей средства, чтобы раскрыть перед народными массами звериную
сущность правительства Гитлера и организовать массовые выступления против него.
30 января и в последующие дни состоялись крупные демонстрации во многих крупных
городах Германии, в том числе в Берлине, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте,
Мюнхене, Кёльне, Лейпциге, Дортмунде и др. Портовые рабочие Гамбурга начали
забастовку протеста против прихода гитлеровцев к властиш. Эти
выступления показали, что антифашисты не намерены сложить оружие; но они были
разрозненны и не могли представить угрозы гитлеровскому режиму.
А сотни тысяч рядовых
социал-демократов в эти часы бездействовали, хотя были полны желания сразиться
с ненавистным фашизмом. 30 и 3! января функционеры СДПГ со всей страны
находились в Берлине; они возвратились на места, полагая, что руководство
все-таки отдаст приказ о борьбе. Во многих местах делались последние
приготовления; кое-где имелось оружие. Но приказа не последовало 188.
Р. Брейтшейд, сделавший на заседании руководящих органов партии 31 января
доклад о последних событиях, возлагал главные надежды на противоречия внутри
правительства Гитлера. «Было бы глупо,— говорил он,—если бы СДПГ и рабочий
класс в целом какими-либо непродуманными и поспешными действиями помешали бы
процессам, которые должны развиваться в правительстве, если бы рабочий класс
помог сплотиться противоборствующим в нем силам» 189. Это
было теоретическое обоснование своей пассивности и капитулянтства.
------------------
186 «Berliner
Borsenzeitung», 31.I 1933.
187 «Geschichte der
deutschen Arbeiterbewegung», Bd. 5.
188 Е. Matthias. Zum
Untergang der deutschen Sozialdemokratie.— «Vierteljahrshеftе fur Zeitgeschichte», 1956, H. 3, S. 259—260.
189 ЦПА ИМЛ, ф. 215, on. 1, ед. хр. 94.
417
Таков был итог тогдашней
политики социал-демократических лидеров. Одна же К.ПГ не могла изменить
конечного исхода острой борьбы сил демократии и реакции, развернувшейся в
Германии начала 30-х годов. Страшная тяжесть экономического кризиса,
обрушившаяся на массы трудящихся, не привела к революционизированию широчайших
слоев населения. Значительная часть их вследствие раскола рабочего
класса, а также из-за, своеобразия положения Германии как побежденной страны
стала жертвой фашистской демагогии и превратилась в резерв крайней реакции.
Решающую роль в установлении
гитлеровской диктатуры сыграли силы внутренней реакции— воротилы тяжелой
промышленности и юнкерство, заинтересованные в устранении всех препятствий на
пути борьбы за мировое господство. Им деятельно помогали монополии Англии и
США, содействовавшие восстановлению мощи германского империализма с целью
направить его агрессию против Советского государства. Влиятельные представители
правящих кругов этих стран оказывали важную политическую поддержку германской
реакции, финансировали крайне правые партии и организации. Известно, например,
что нацистскую партию кредитовал американский «автомобильный король» Форд,
восхищавшийся расистскими идеями нацистов 190. Финансирование
гитлеровцев американскими монополиями шло по различным каналам, в частности
через посредство руководителя сектора иностранной прессы нацистской партии
Ханфштенгля, прежде жившего в США и располагавшего там большими связями 191.
Но едва ли не наиболее важным
для германских фашистов связующим звеном с англо-американской реакцией был уже
упоминавшийся кёльнский банкир К. Шредер. Дочерние предприятия банка,
совладельцем которого он был,— лондонская фирма «Дж. Генри Шредер энд Кс»
и нью-йоркская фирма «Дж. Генри Шредер бэнкинг корпорейшн» — специализировались
на кредитовании германской тяжелой промышленности. Пост директора американского
банка Шредеров в течение многих лет занимал небезызвестный Аллен Даллес, позднее
возглавивший Центральное разведывательное управление США, а совладельцем
юридической конторы этого банка — фирмы «Салливен энд Кромвелл» был брат
последнего Джон Фостер Даллес, государственный секретарь США в 50-х годах,
автор политики «с позиции силы»192. Шредер не ограничился
посредничеством между Папеном и Гитлером, что, мы как знаем
------------------------
190 К. Ludecke. I Knew
Hitler.
191 «Das
braune Netz. Wie Hitlers Agenten im Ausland arbeiten und den vorbereiten». Paris, 1935, S. 39, 287.
192 Д. Мартин. Братство бизнеса. М., 1951, стр. 78, 98.
418
имело столь большое значение для
прихода нацистов к власти. В январе
Отражая настроения видных
представителей «делового мира, и официальных лиц, американская и английская
пресса неоднократно высказывалась за предоставление Гитлеру «ей полноты власти. А после прихода
фашистов к власти, 31 января
-------------------
193 New York
Times», 16.X 1944.
419
Мы подробно проследили ход
политической борьбы в годы, предшествовавшие приходу гитлеровцев к власти,
стремясь максимально полно раскрыть его причины, сформулировать уроки событий
начала 30-х годов в Германии. Вряд ли могут быть сомнения в том, что такие
уроки, несмотря на значительные различия в исторических условиях, в расстановке
классовых сил, существенно важны для трудящихся некоторых зарубежных стран.
Победа фашизма была тяжелым
ударом для народных масс Германии1. Она вдохновила силы самой черной
реакции и в ряде других стран, толкнула их на попытки захвата власти, как было,
например, в феврале
Хозяева страны — магнаты
капитала — издавна стремились к тому, чтобы скрутить в бараний рог всех, кто
мешал начать практическую подготовку новой мировой войны. И когда в стране
сложились благоприятные условия для этого,— а буржуазия исподволь создавала их
— монополисты поставили у власти фашистскую клику, видя в ней наилучшего
исполнителя своих замыслов.
Мы видели, что это произошло
далеко не сразу, что понадобилось около трех лет, чтобы установить в Германии
господство фашизма. Германия была страной развитого рабочего
-------------------
420
движения, имевшего замечательные традиции
борьбы за демократию. Достаточно вспомнить события недавнего, по тем временам,
прошлого: решительные действия немецкого пролетариата по ликвидации
монархического путча Каппа—Лютвица в
Один из важнейших уроков
рассмотренных событий заключается в том, что они внесли некоторые новые черты в
характеристику монополистической буржуазии как заклятого врага нации,
способного на все для осуществления своих агрессивных, антинародных замыслов.
Еще никогда до этого не оправдалось в такой ужасающей степени предвидение В. И.
Ленина о том, что монополистическая буржуазия «готова на все дикости, зверства
и преступления, чтобы отстоять гибнущее капиталистическое рабство»2.
Насквозь фальшивы заверения лиц, причастных к передаче власти нацистам, и их
адвокатов —буржуазных историков, что сущность гитлеризма была до 30 января
Нам представляется, что едва
ли не главный смысл изучения предыстории установления гитлеровской диктатуры в
том, что оно убедительно показывает всю важность своевременного распознания
фашистской заразы и ее подавления в зародыше. Главное при этом не дать ей
развиться и превратиться в смертельную угрозу, для преодоления которой
требуется бесчисленное количество жертв. Без точного знания того, что произошло
в Германии начала 30-х годов, невозможна, по нашему мнению, успешная борьба
против неофашизма.
Но именно к комплексу
вопросов, связанных с борьбой против фашизма, относятся наиболее
существенные уроки рассмот-
-----------------------------------
2 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т.
23, стр. 166.
421
ренных событий. Как показано выше, одна из
распространенных версий буржуазной историографии гласит, будто приход
гитлеровцев к' власти нельзя было предотвратить. Так ли это? Было ли
установление фашистской диктатуры в Германии действительно неизбежно? Ни в коем
случае! Как нам кажется, новые материалы, приведенные в работе, подкрепляют
этот вывод; он, конечно, сделан давно, но его повторение, тем не менее, и
теперь актуально. Документы показывают, что расчеты правящих кругов Германии
были только одной стороной дела. Существовала и другая — позиция трудящихся
масс.
Германской буржуазии удалось
при помощи гитлеровцев привлечь на свою сторону миллионы обнищавших мелких
собственников, определенное количество безработных пролетариев и т. п. Но
основную массу производителей всех материальных ценностей — рабочих, удельный
вес которых в политической жизни такой промышленно развитой страны, как
Германия, особенно высок, фашизм не только не сумел завоевать: они являлись его
убежденными противниками. То была сила, которая могла преградить путь реакции в
любых ее видах. Единственным непременным условием для этого была сплоченность
пролетарских рядов.
Единство рабочего класса не
только удесятерило бы его собственную мощь. Оно позволило бы ему отвоевать у
фашизма мелкобуржуазные массы, обманутые нацистской демагогией и опьяненные
атмосферой подъема и успеха, которая в течение длительного времени
сопутствовала гитлеровцам. А объективные условия для революционизирования
широчайших масс были тогда, в обстановке глубочайшего экономического кризиса,
благоприятны как никогда. В Германии имелась последовательная революционная
партия — КПГ, уверенно расширявшая свое влияние на рабочий класс. Но не было
главного, без чего отпор фашизму не мог быть эффективным,— не был преодолен раскол
пролетариата, не были устранены взаимное недоверие и отчуждение в рабочей
среде. Раскол помешал рабочему классу использовать в своих интересах
противоречия — иногда довольно острые — в буржуазном лагере. То, что делали
социал-демократические лидеры, поддерживавшие одну из группировок реакционной
буржуазии, представленную именами Гинденбурга и Брюнинга (а в дальнейшем
Шлейхера), ни в коей мере не являлось использованием разногласий
господствующего класса для целей антифашистской борьбы.
Выше приводилось много
фактов, иллюстрирующих чувства, владевшие тогда миллионами рабочих, будь то
коммунисты или социал-демократы. Они готовы были отдать жизнь, чтобы отвести
от Германии страшную угрозу фашистского господства. Немецкие пролетарии, и в
первых рядах их коммунисты, в жестокой борьбе против гитлеровцев явили
замечательные образцы
422
мужества и самоотверженности. Они были
полны решимости дать фашизму генеральный бой. Но его не произошло, ибо
тогдашние социал-демократические вожаки, сохранившие влияние на значительную
часть пролетариата, не захотели отказаться от антикоммунизма и от борьбы
против КПГ.
В гибельности антикоммунизма
заключается едва ли не наиболее важный вывод из событий, предшествовавших
установлению гитлеровской диктатуры. Антикоммунизм послужил весьма удобным
прикрытием для осуществления замыслов германских монополий. Нацисты широко
использовали его в качестве орудия для запугивания тех слоев населения, которые
не имели ясного представления о целях революционного пролетариата и его
марксистской партии — КПГ, для привлечения этих слоев на свою сторону или их
нейтрализации. В действительности фашисты, идя к власти и направляя свой
главный удар против авангарда', рабочего класса, стремились уничтожить не толь*
ко КПГ, но и все другие демократические организации, ликвидировать
конституционные права и свободы.
В Германии начала 30-х годов,
как видно из работы, сколько-нибудь серьезной непосредственной угрозы
существованию капиталистического строя не было. Но существовал психологический
фактор, которым нередко пренебрегают. Несомненные успехи революционных сил
(подъем массового движения, особенно во второй половине
КПГ прилагала огромные
усилия, чтобы повернуть ход событий и предотвратить взятие власти фашистами.
Надо учесть, однако, что имевшийся к тому времени опыт (преимущественно
итальянский) был мало пригоден в германских условиях. В то время КПГ еще не
успела выработать такую стратегическую линию, которая исходила бы из понимания
правильной последовательности в постановке демократических и социалистических
задач. Выработка этой стратегической линии была ускорена именно событиями
начала 30-х годов и происходила на основании их опыта.
Установление открытой
фашистской диктатуры стало возможно в результате раскола рабочего класса и
народных сил, главную ответственность за который несут правые руководите-
----------------------------
8 «Коммунистический Интернационал», 1933, №
11, стр. 5.
423
ли СДПГ и профсоюзов»4.
Германские события воочию показали жизненную необходимость во что бы то ни
стало добиться единства всех демократических сил как залога победы над
фашизмом. Усвоив этот урок, французские трудящиеся в
После разгрома гитлеризма
державами антигитлеровской коалиции эта убежденность,—если говорить о
германском рабочем классе,— была всеобщей. Но лишь на востоке страны программа,
провозглашенная коммунистической партией и воплотившая в себе чаяния
трудового люда всей Германии, стала реальностью. В западных зонах,
оккупированных войсками Англии, США и Франции, массовое движение за
демократизацию общественной жизни, за единство рабочего класса не добилось
победы. Уроки событий, завершившихся приходом гитлеровцев к власти, не были здесь
учтены. В ФРГ сохранились в неприкосновенности социальные корни, питавшие
реваншизм, крайнюю реакцию и фашизм. Сильнейшая вспышка неонацистской
опасности, имевшая место во второй половине 60-х годов, наглядно показала, что
в этой стране подобная потенциальная угроза существует постоянно.
Конечно, современная
обстановка сильно отличается от условий начала 30-х годов. Нацизм, запятнавший
себя кровью миллионов людей, скомпрометирован, и простое копирование его
методов сейчас вряд ли сможет принести крайней реакции успех. Но последыши
гитлеризма в ФРГ учитывают это и, чувствуя себя безнаказанными, ведут упорную
борьбу за души неустойчивых к демагогии элементов населения.
Но в наши дни есть и другая,
демократическая Германия, и в этом заключается коренное отличие современной
обстановки от той, которая имела место в начале 30-х годов XX в. Существует и
крепнет социалистическое государство рабочих и крестьян на немецкой земле,
государство, в котором уничто-
----------------------
4 «Grundriss der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung».
Berlin, 1963, S. 165.
424
жены социальные условия, порождавшие
фашизм. В ГДР стала реальностью мечта рабочих о полном единстве их рядов;
вскоре после разгрома ненавистного гитлеризма произошло объединение КНГ и СДПГ
в Социалистическую единую партию Германии, хранительницу лучших боевых традиций
немецкого рабочего движения. Трудящиеся Германской Демократической Республики
успешно строят социализм, и это —факт огромного исторического значения. Тех же
магнатов капитала, кто в
Напряженная политическая
борьба в Германии начала, 30-х годов окончилась поражением прогрессивных,
демократических сил. Его последствия были необычайно тяжелы. Но опыт этой
борьбы, ее уроки имеют большое значение. Они с предельной наглядностью
предостерегают сторонников демократии от повторения ошибок, во многом
способствовавших захвату власти таким опасным и изощренным врагом демократии и
мира, каким является фашизм.
Об этом вновь напомнило рассмотрение
вопроса о разновидностях фашизма в Центральной и Восточной Европе на ХШ
Международном конгрессе исторических наук, состоявшемся в августе
425
бы тем самым снять историческую вину с
подлинных виновников— монополий, крупных землевладельцев и т. п.), то историки-марксисты
основывают свои исследования в этой области на всестороннем раскрытии классовой
сущности и социальной направленности фашизма как орудия крупного капитала.
Всемерно развивать эти исследования, на новом материале подтверждать правоту
марксистского определения характера фашизма, неустанно разоблачать его звериную
сущность, которую как показали некоторые выступления на XIII Международном
конгрессе исторических наук, на Западе подчас склонны забывать,— долг советских
историков.
ТРУДЫ КЛАССИКОВ
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА
Маркс К., и Энгельс Ф. Манифест
Коммунистической партии.— Соч., т. 16.
Маркс К. Критика Готской программы.— Соч., т. 19.
Энгельс Ф. Введение к работе К. Маркса «Гражданская
война во Франции».— Соч., т. 22.
Энгельс Ф. К критике проекта социал-демократической
программы 1891 года.— Соч. т. 22.
Ленин В. И. Об оценке текущего момента.— Полн. собр.
соч., т. 19.
Ленин В. И. Разногласия в европейском рабочем
движении.— Полн. собр. соч., т. 20.
Ленин В. И. Отсталая Европа и передовая Азия.— Полн.
собр. соч., т. 23.
Ленин В. И. Империализм, как высшая стадия
капитализма.— Полн. собр. соч., т. 21.
Ленин В. И. Тетради по империализму.— Полн. собр.
соч., т. 28.
Ленин В. И. Государство и революция.— Полн. собр.
соч., т. 33.
Ленин В. И. Пролетарская революция и ренегат
Каутский.— Полн. собр. соч., т. 37.
Ленин В. И. Письмо к рабочим Европы и Америки.— Полн.
собр. соч., т. 37.
Ленин В. И. Привет итальянским, французским и немецким
коммунистам,— Полн. собр. соч., т. 39.
Ленин В. И. Детская болезнь «левизны» в коммунизме.—
Полн. собр. соч., т. 41.
Ленин В. И. Письмо к немецким и французским рабочим.—
Полн. собр. соч., т. 41.
Ленин В. И. Доклад на II конгрессе Коммунистического
Интернационала о международном положении и основных задачах Коммунистического
Интернационала,—Полн. собр. соч., т. 41.
Ленин В. И. Речь на собрании актива Московской
организации РКП (б) 6 декабря
Ленин В. И. Письмо к немецким коммунистам.— Полн.
собр. соч., т. 44.
РАБОТЫ ДЕЯТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ, КПГ И СЕПГ
Димитров Г. Наступление фашизма и задачи
Коммунистического Интернационала в борьбе за единство рабочего класса, против
фашизма.— Избр. произв., т. I. M., 1957.
Норден А. Уроки германской истории. К вопросу о
политической роли финансового капитала и юнкерства. М., 1948.
Пик В. Отчет о деятельности Исполнительного
Комитета Коммунистического Интернационала. М., 1935.
427
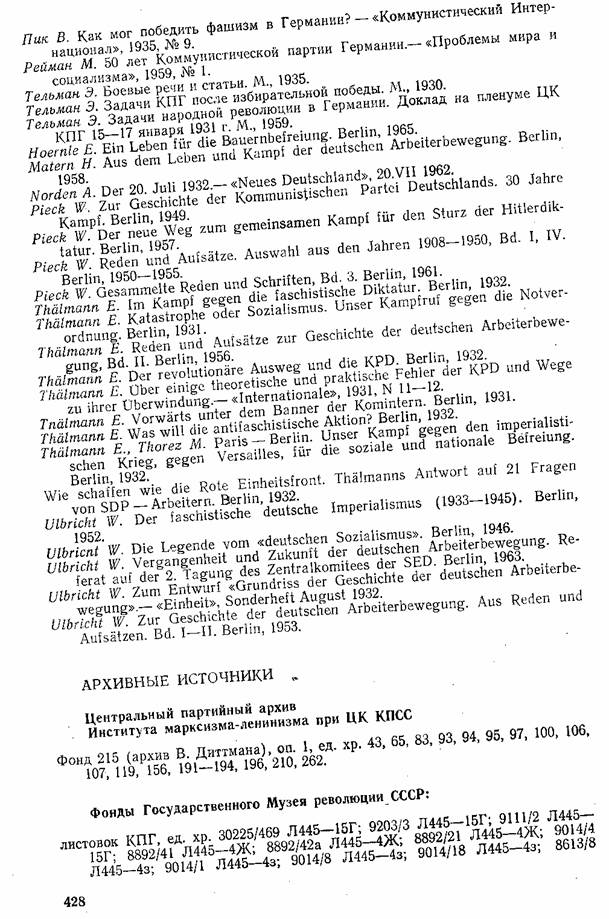
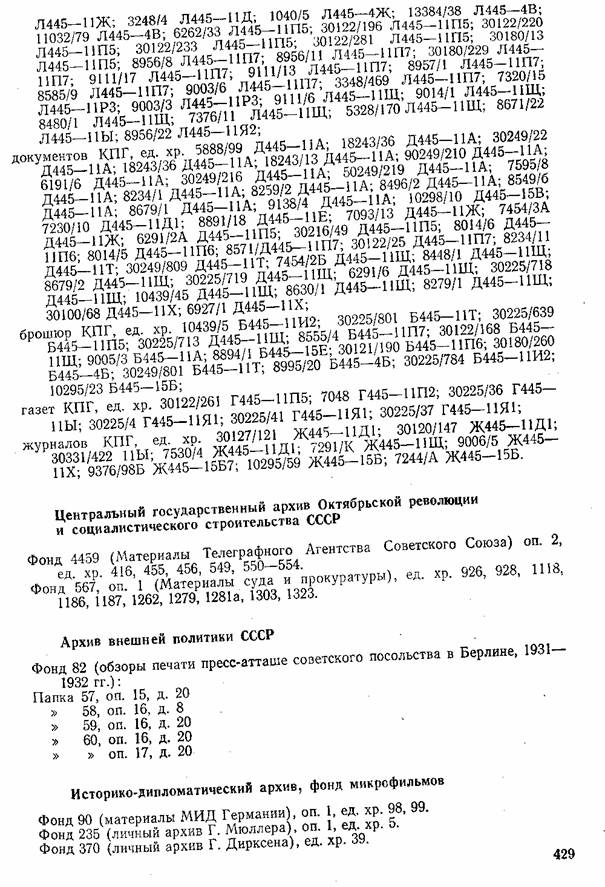
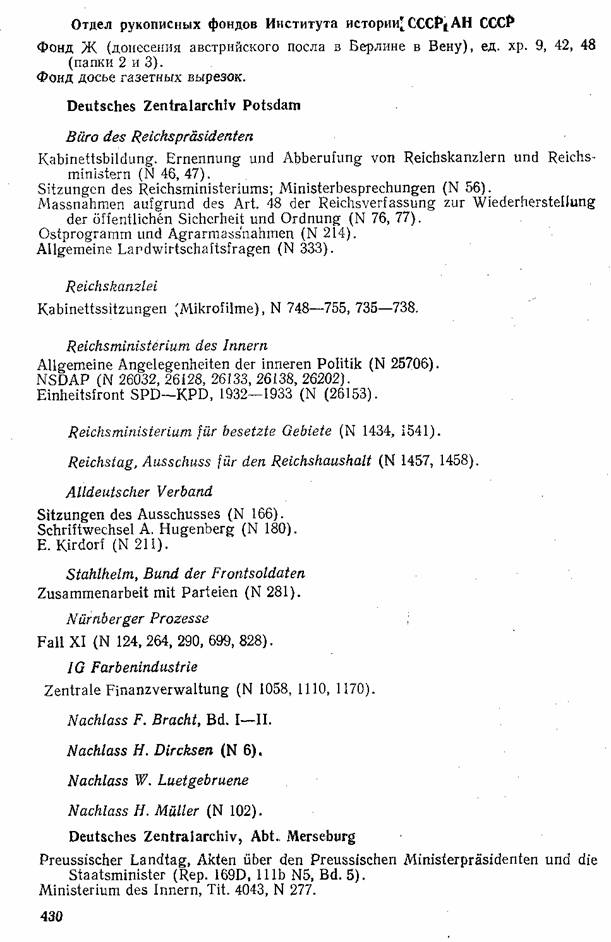
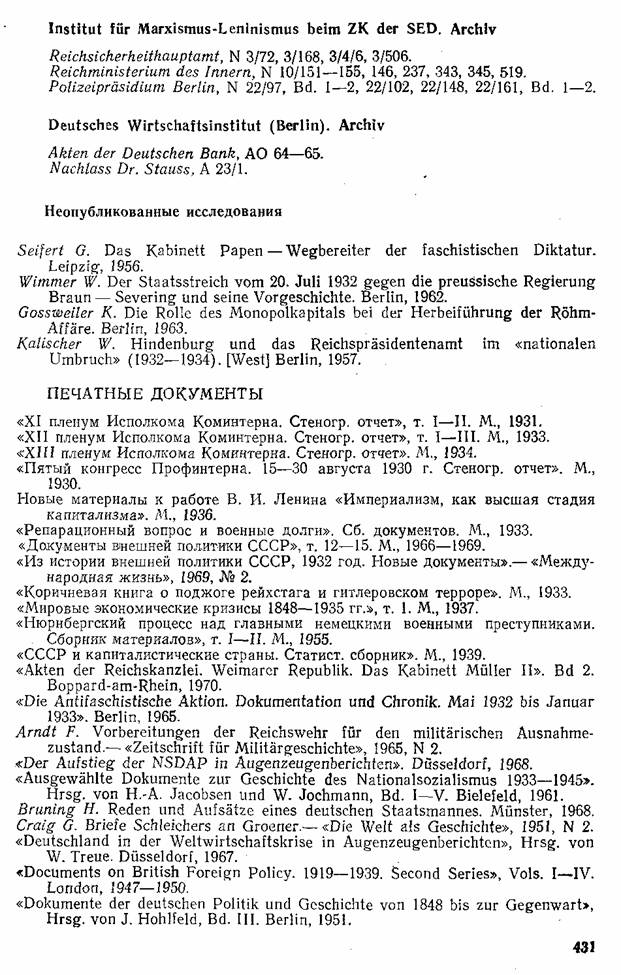
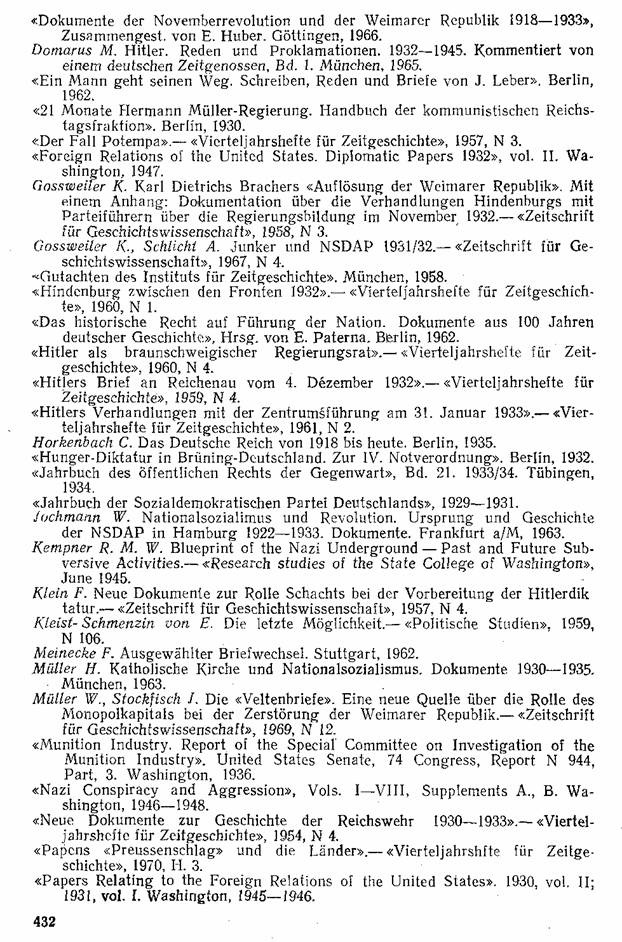
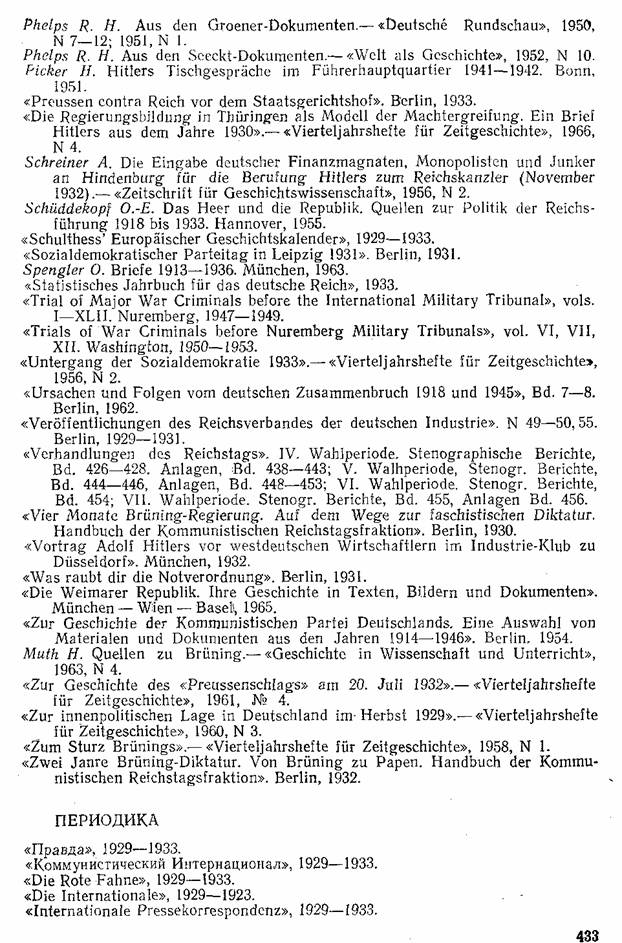
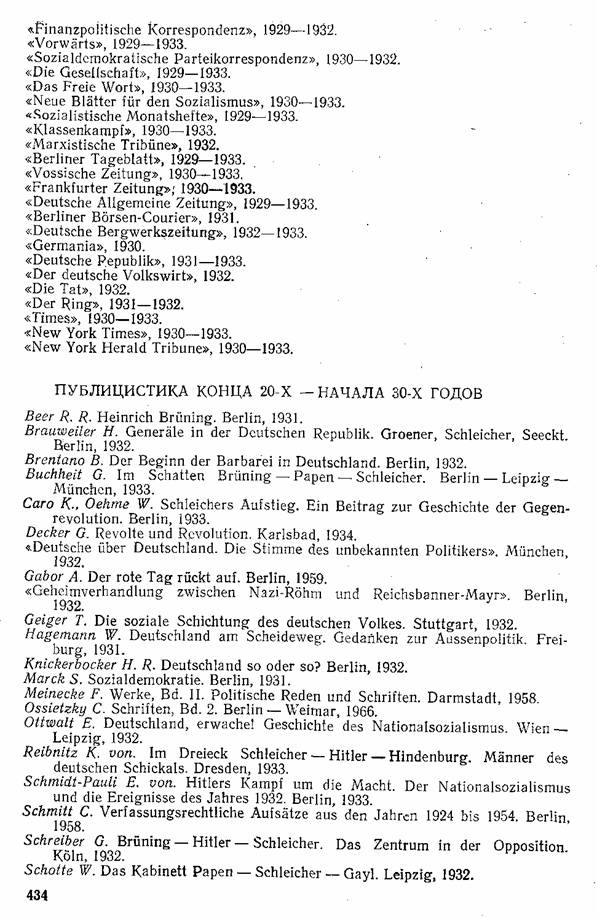
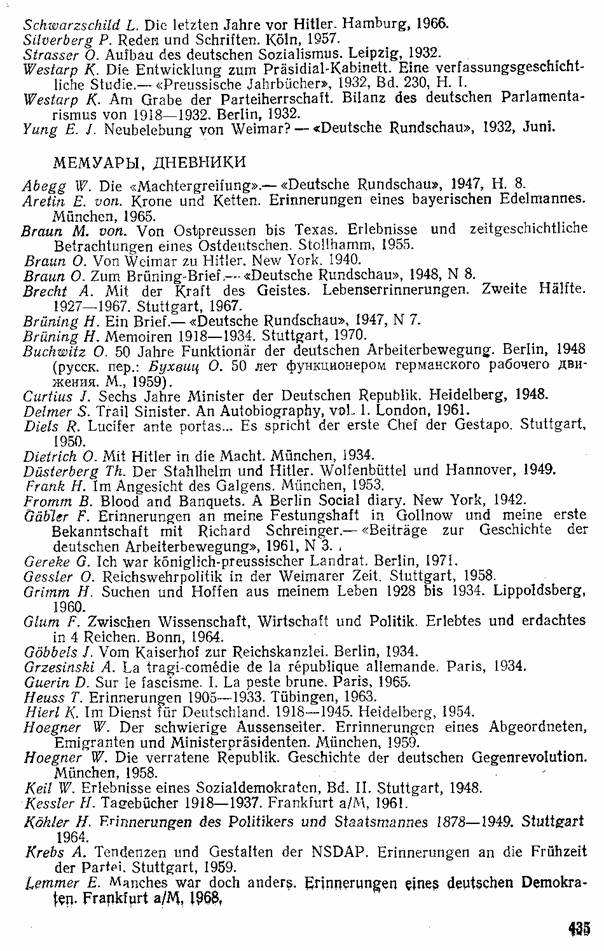
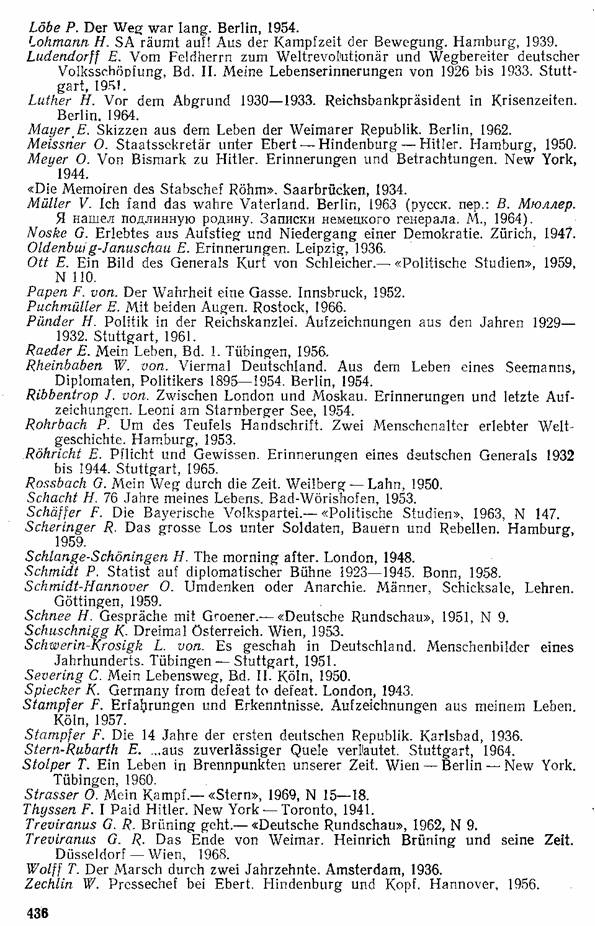
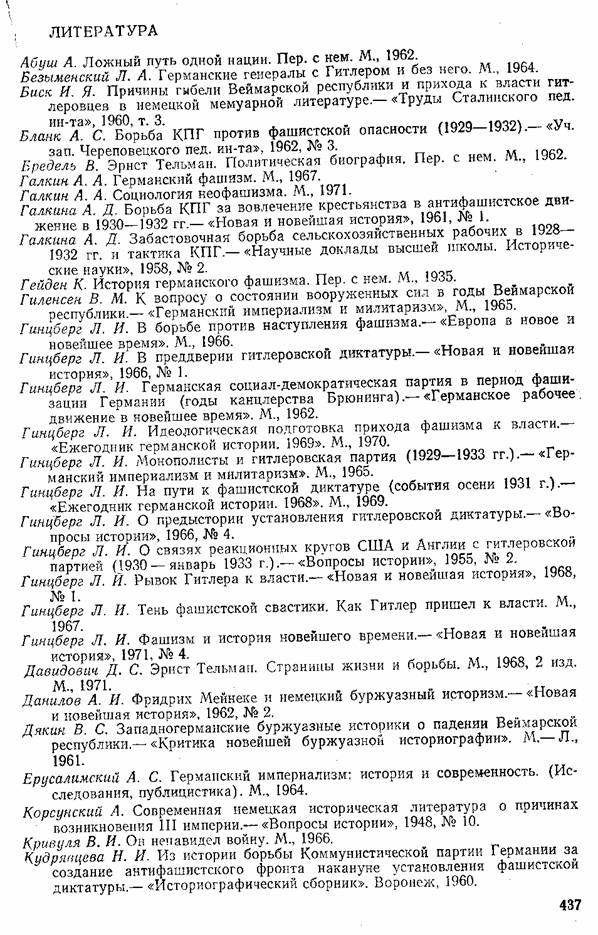
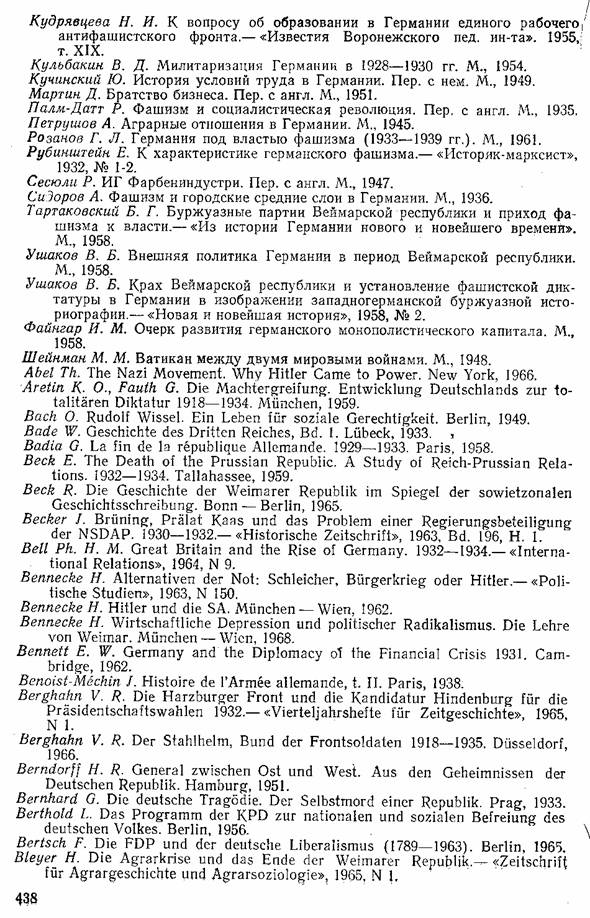
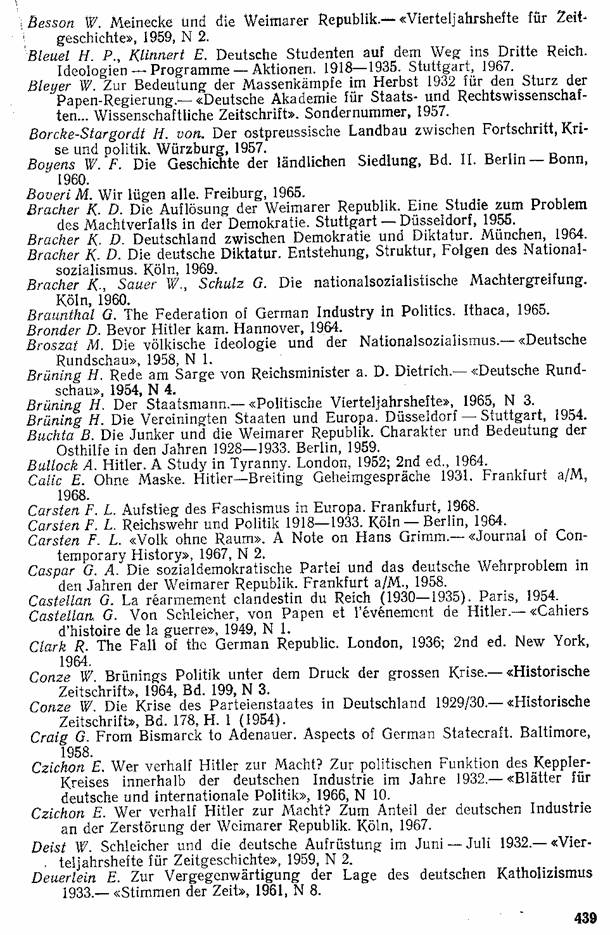
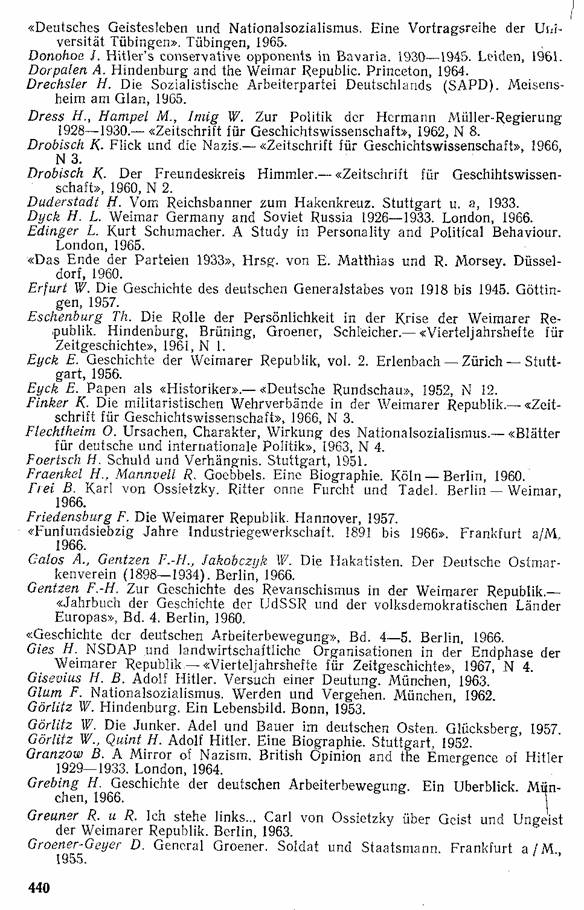
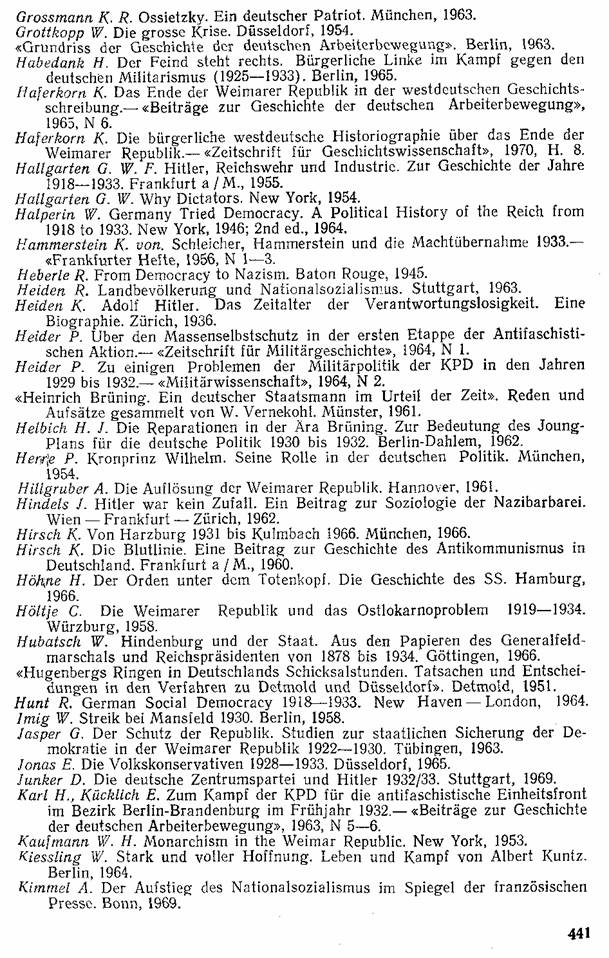
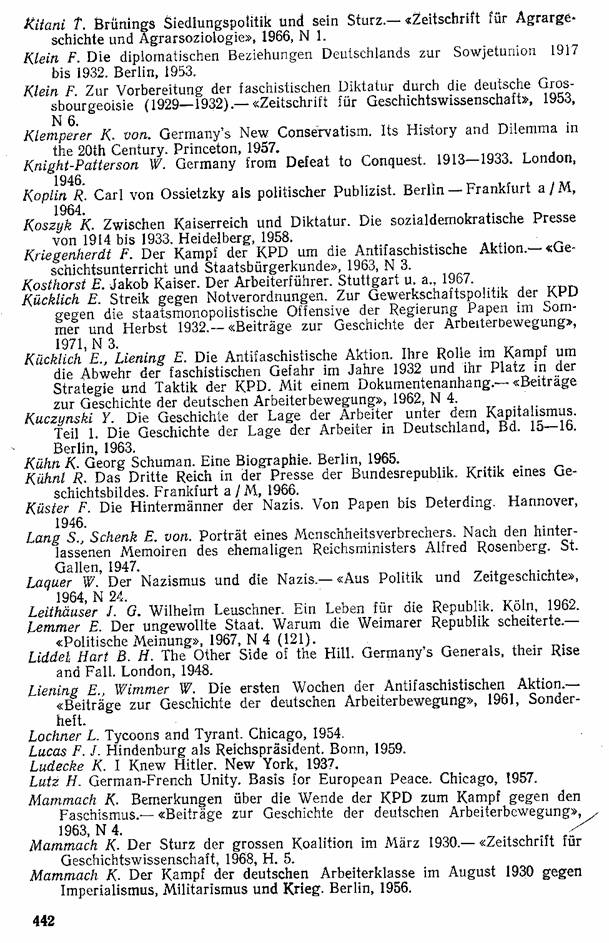
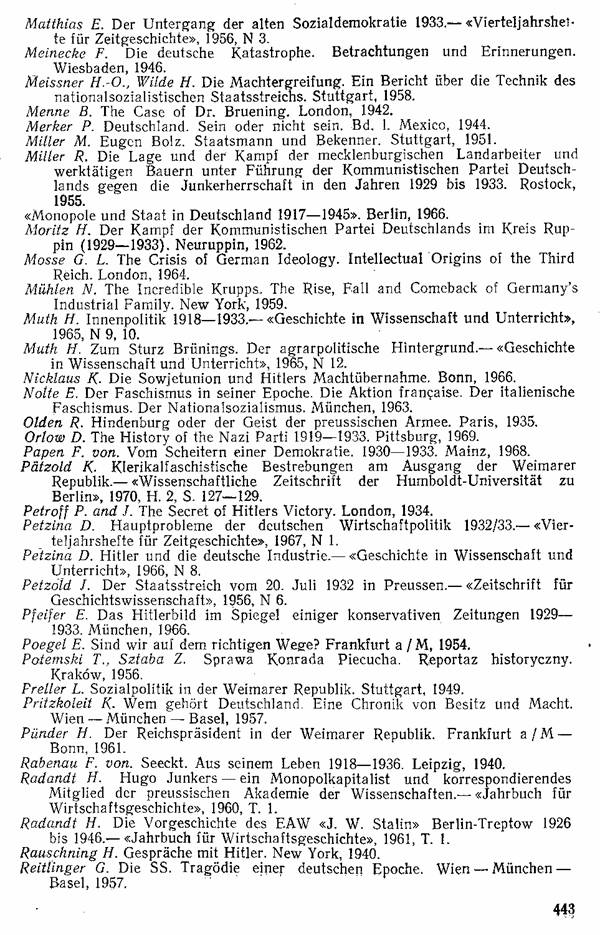
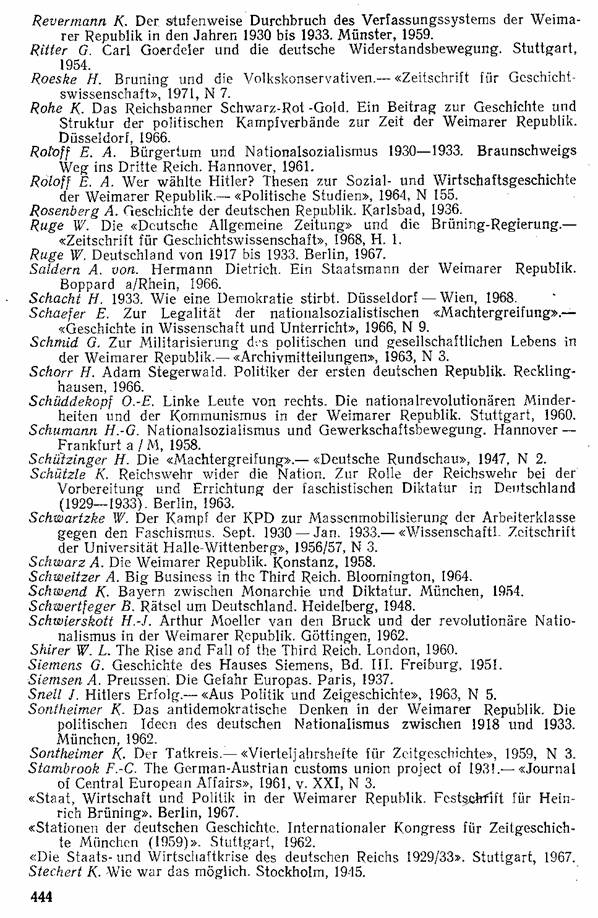
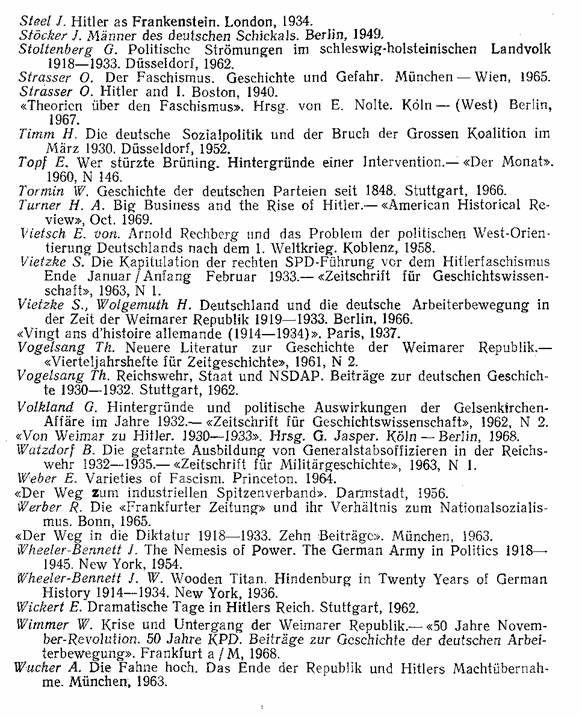
445
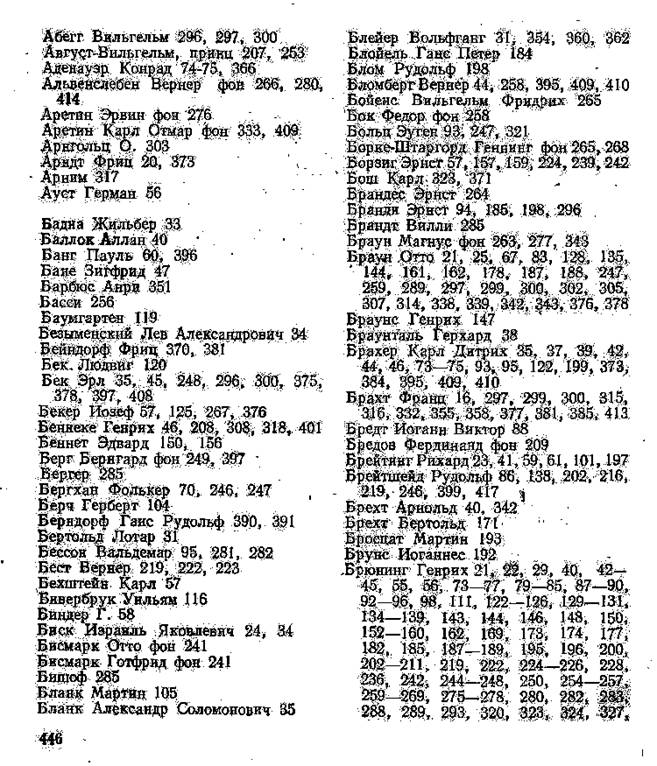
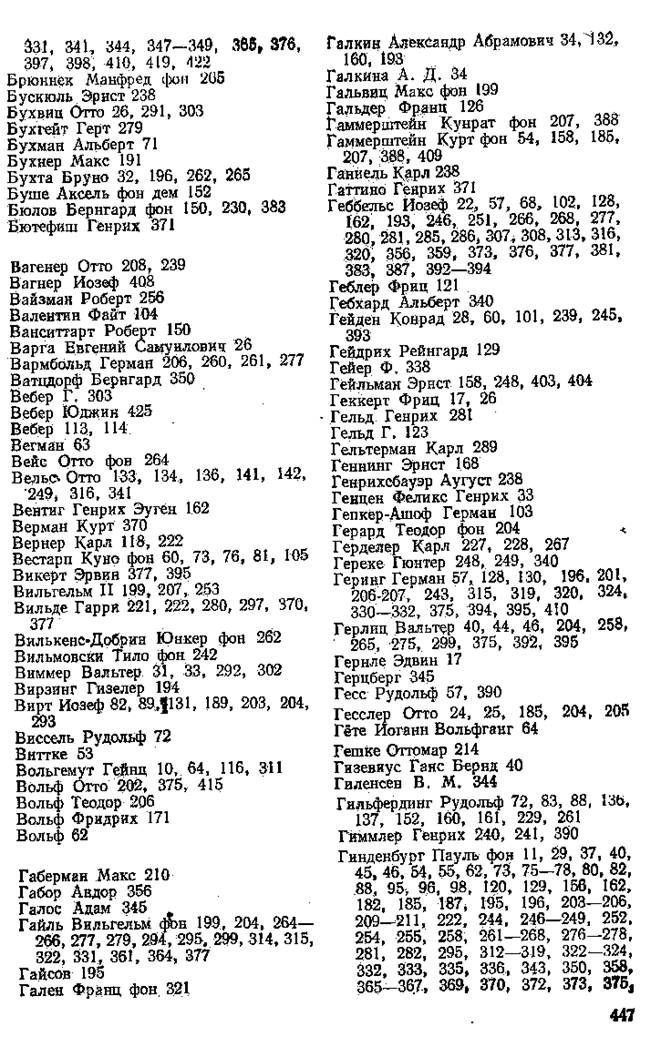
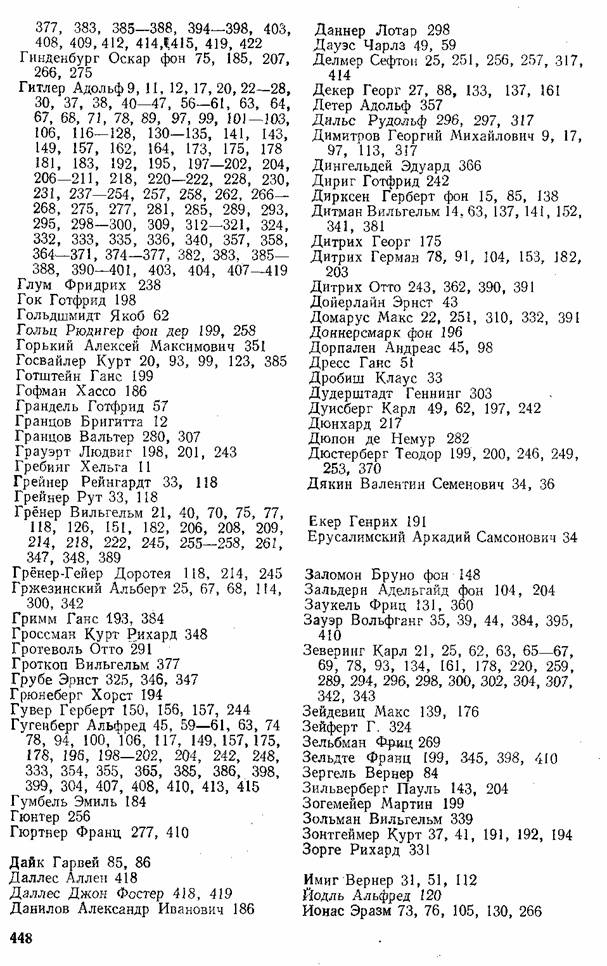
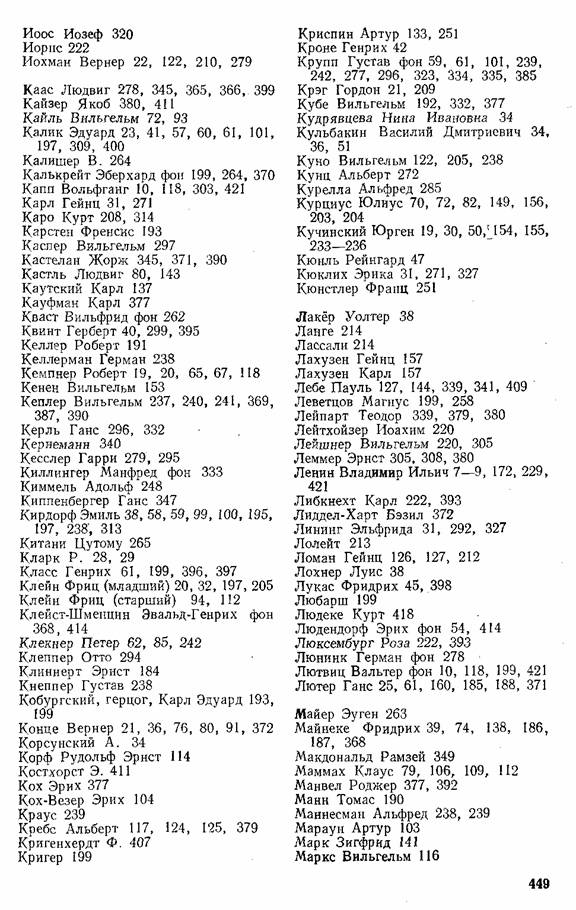
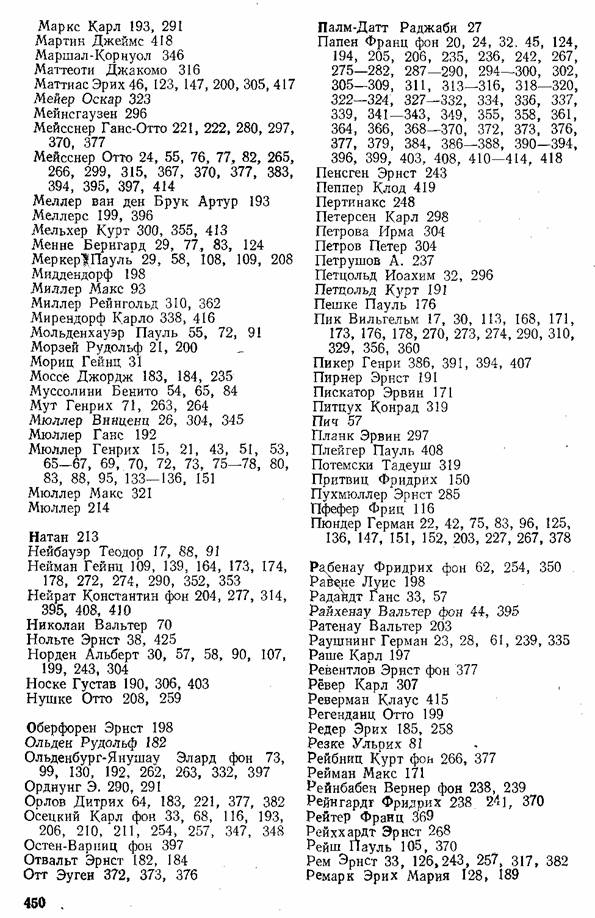
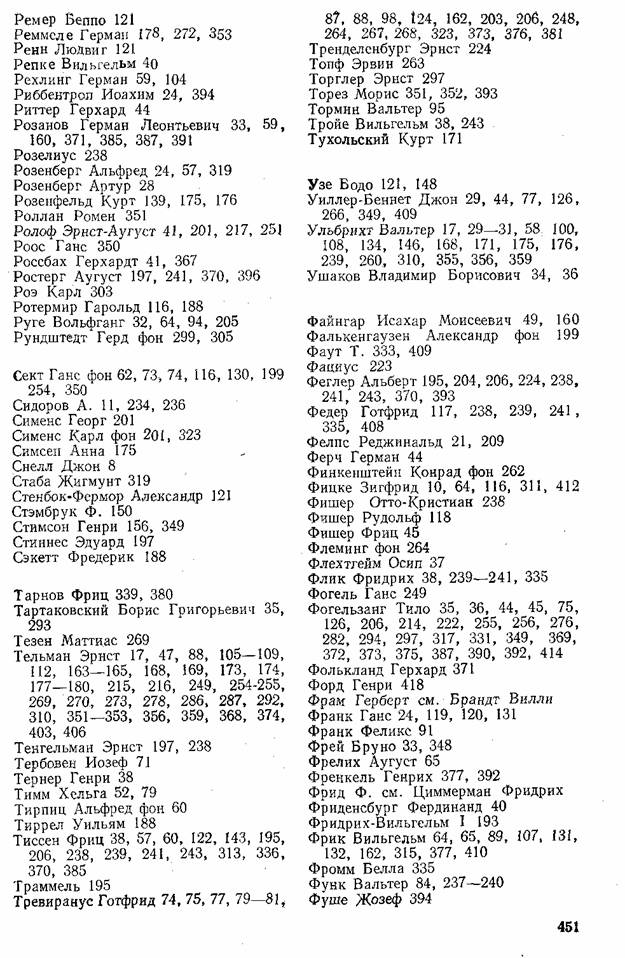
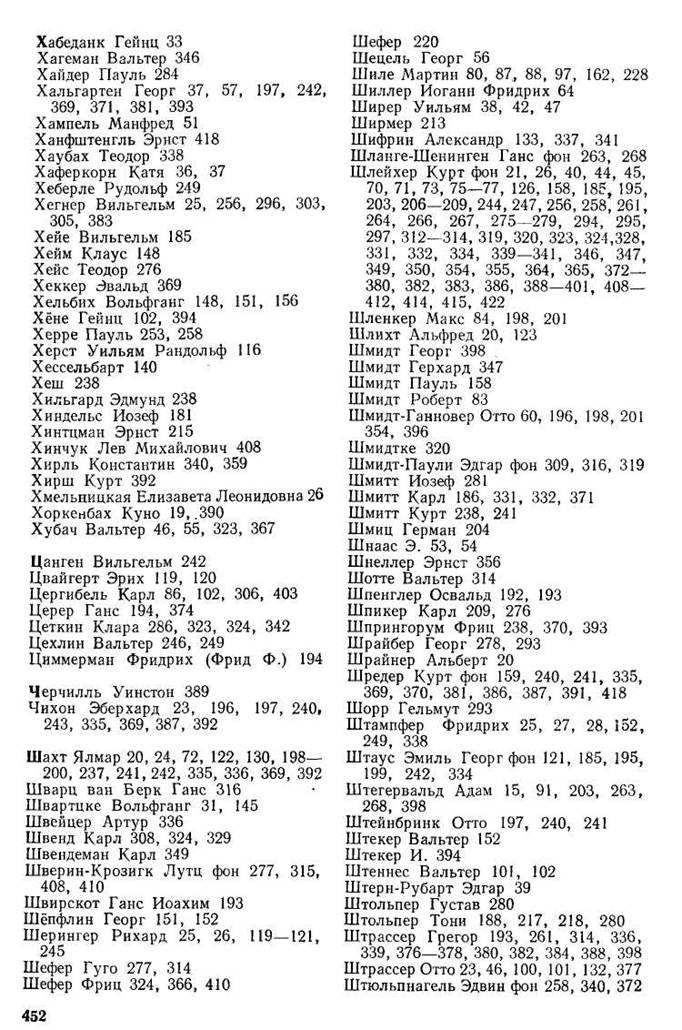
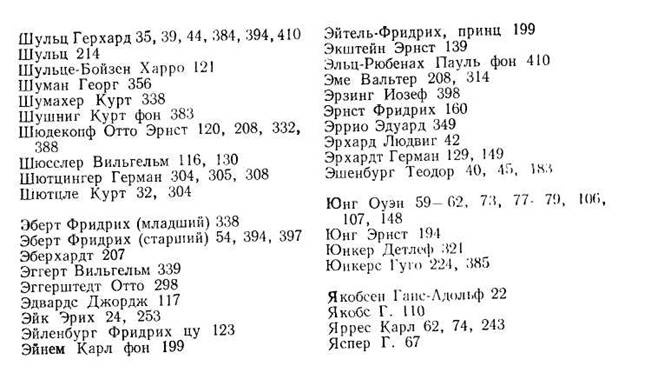
453
Лев Израилевич Гинцберг
На пути в имперскую канцелярию
Германский фашизм рвется к власти
Утверждено к печати
Институтом всеобщей
истории
Академии наук СССР
Редактор В. Д.
Вознесенский
Редактор издательства Н.
Ф. Лейн
Художественный редактор Ю.
Л. Трапаков
Художник А. А. Кущенко
Технический редактор В. Д.
Прилепская
Сдано в набор 9/IX
Подписано к печати 29/Х
Бумага № 2. Усл. печ.
л. 28,5. Уч.-изд. л. 30,4.
Тираж 15.000 экз. Т-17240 Тип. зак. 2843
Цена 2 p.08 к.
Издательство «Наука».
Москва К-62, Подсосенский
пер., 21
2-я типография издательства
«Наука»
Москва
Г-99, Шубинский пер., 10